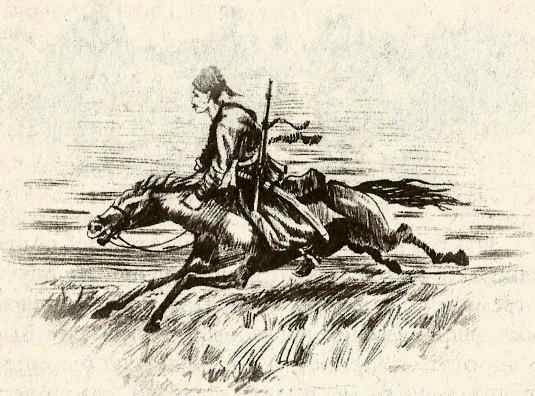
В полдень, когда солнце начало припекать не по-весеннему, а совсем уже по-летнему, Сирко решил сделать привал, и казаки спешились. Мурза Тенмахбет хранил угрюмое молчание и только изредка с его уст срывались проклятия, которыми он хотел заглушить жалобу, чтобы не показаться врагам малодушным. Он знал, что ждет его неволя, что из московской неволи ему трудней освободиться, чем из запорожского плена. Запорожцы — соседи, люди хоть и чужие, но не чуждые. Не раз приходилось татарам вместе с ними делить боевые труды и подвиги, и это невольно сближало их. Но Москва нечто чуждое и суровое, — с ней труднее поладить, из-под московского замка трудней уйти.
Тенмахбет, считавший себя непобедимым воином, никак не мог примириться с положением вещей. Когда он предавал огню и мечу польские и украинские города, то был уверен, что совершает дело вполне правое, естественное и даже угодное могущественному Аллаху и его великому пророку Магомету. Раз в душе человека царят потемки, то ему черное представляется белым, а белое — черным, и он не замечает этого. Мурза с раннего детства видел только ложь и жестокость. Окружающие пресмыкались перед ним, видя в нем будущего вождя и повелителя; а школой его были война, набеги на мирные села и деревушки, грабеж и разбой. Теперь, когда он чувствовал себя бессильным и беспомощным, как ребенок, ему это представлялось величайшей несправедливостью, суровой, незаслуженной карой, так как он был убежден, что совершал подвиги — а за подвиги разве карают?.. Узкие, заплывшие жиром глазки татарина с недоумением устремляются к высокому небу; но голубой небосвод безмолвствует, и тучный мурза напрасно ждет ответа. Его собратья по несчастью, пленные татары, смотрят на своего господина с сожалением, но помочь ему они не могут — это не в их власти. Мысль о бегстве тоже не приходит в их бритые головы, потому что их пленил не обыкновенный, заурядный враг, а сам шайтан, шайтан-Сирко, а из его железных когтей не вырывался еще ни один пленник.
Бывали, положим, и чудеса, когда грозный шайтан делался вдруг кротким, как голубь, и великодушно даровал жизнь и свободу невольнику, но он умел миловать слабых и угнетенных, всегда имевших доступ к его сердцу. Мурза Тенмахбет к этой категории не подходил. Кто, как не он, всюду вносил ужас, отчаяние и разорение?
Кто отрывал младенцев от матерей, жён от мужей? Кто превращал трудолюбивых пахарей в нищих и плодоносные нивы — в пустыни? Кто пировал на пепелищах дотла разоренных городов? Чей путь освещало зарево пожаров?.. О, нет, лютому волку нечего взывать к милосердию!.. Сними с него Сирко цепи сегодня, — и завтра же ясное украинское небо снова почернеет от дыма пожаров…
Кони успели отдохнуть. И Сирко с товарищами снова двинулся в путь. Дорога шла степью, жилье встречалось все реже и реже, да и людей всё меньше. Заслышав лошадиный топот, срывались дрофы, но отлетев в сторону, сейчас же снова опускались в густую сочную траву.
Когда свечерело, и над притихшей степью заблестел молодой месяц, всадники увидели впереди кучу деревьев; из-за густо разросшихся ветвей выглядывали соломенные крыши, виднелся шест колодца, называемого «журавлем», а над крайней хатой вился спиралью сизый дымок. Не успевшая погаснуть заря бросала розоватый отблеск на этот одинокий заброшенный хуторок, и он выглядел так приветливо и уютно, что миновать, его гостеприимную сень было трудно.
— Времени у нас довольно, переночуем здесь, — сказал атаман, обращаясь к зятю.
— Воля ваша, батько, переночуем.
Казаки направились к хутору. Лохматые овчарки встретили их пронзительным лаем. Выглянули перепуганные хозяева, так как в те суровые времена вид вооруженных людей ни в ком не мог вызвать доверия. Но Сирко поспешил успокоить их, и казаки спешились.
Белоголовая крестьянская детвора, скрывшаяся в густых зарослях бузины, вскоре освоилась с приезжими, заинтересовалась ими, и маленькие храбрецы начали бочком приближаться к казакам. Сначала они держали себя осторожно, опасливо, напоминая, воробьиную стаю, подбирающую просыпанную возле самой хаты крупу; но любопытство уничтожило последние остатки страха. Мальчуганы уже вертелись подле лошадей, рассматривали украшенную серебром сбрую и дорогое казацкое оружие. Больше всего, впрочем, детвору занимал толстый татарин. Дети сразу смекнули, что он попал на аркан, и ничуть его не боялись. Некоторые смельчаки начали бросать камешки в широкую спину мурзы, но Сирко не одобрил подобных шуток и, прикрикнув на шалунов, заставил их разбежаться.
Подкрепив свои силы размоченными в воде сухарями, казаки расположились под деревьями на отдых. В это время к атаману подвели старика.
Согбенный, обросший белой, как лунь бородой, старик был слеп на оба глаза.
— Добрый вечер, пан кошевой! — сказал он с поклоном.
— Добрый вечер, дидусь! — ответил Сирко.
— Мне ваши молодцы сказали, что Господь Милостивый послал нам в гости самого Сирка, — продолжал дед, опираясь на высокую палку. — Такой радости мне и во сне не снилось… Если б не вы пане-атамане, томился бы я до сей день в басурманской неволе… Вы меня вызволили оттуда и жинку мою вернули, и деток. Спасибо вам, пане-атамане! Дай вам Господь удачу во всех делах ваших и благослови ваш путь!
— Садись, дидусь, рядком да потолкуем ладком — приветливо обратился к старику атаман.
Дед опустился рядом с кошевым на траву и начал рассказывать окружающим повесть перенесенных им да его близкими страданий. Чего-чего только не натерпелись они в крымской неволе!..
— Я был совсем еще молодым, когда началось мое горе, — повествовал слепец. — Жили мы под Киевом, рыбачили, и всего у нас было вдоволь. Нечего душой кривить, хорошо жили… Детки мои подрастать стали… Все соседи наши, глядя на мое житье, завидовали и спрашивали меня порой: «Отчего это, Данило, тебе такая удача во всем?» — «Кто работает, не покладая, рук, тому всегда удача», — отвечал я им и снова уходил в днепровские заливы на рыбный лов. Старый Днепр и кормил нас, и поил, и всю нужду нашу покрывал — как же, мне было, не любить его?! Отец родной не сделает для сына того, что он для нас делал. Когда, бывало, в половодье старик разворчится, нахмурит седые брови, закипит, заревет, — я только посмеиваюсь, — знаю, что он не взаправду сердился а так только, для острастки. Ревет Днепр, швыряет волнами в крутые берега, белая пена клубится, как в котле, а я на своем челне плыву по заливам да выбираю местечко получше, куда буря больше рыбы нагонит…
«Любит дидусь поболтать, охотник покалякать!» — думал Сирко, улыбаясь в усы.
— Случалось мне покидать хату на неделю и дольше, — продолжал слепец, — Раз я месяц пробыл в отлучке. У меня курень свой был на старом Днепре… Вернулся домой, а жинка и говорит мне, что её родители померли, и нужно нам ехать свою часть получать. — «На что нам эта часть!» — говорю ей, а баба, известно, по-своему, — «Хоть у нас всего вдоволь, говорит, — но от добра отказываться не приходится; если не для себя, то для детей, а взять надо»… — «Пусть будет по-твоему», — сказал я и стал собираться в дорогу. Путь был не близкий… Поехали мы всей семьей, с детьми. Хотели богатеями стать, а судьба повернула по-своему, и мы, вместо нового добра, потеряли и старое. Налетел на нас татарский разъезд и погнал в Крым… Чего только мы не натерпелись в неволе… Три раза я хотел бежать на родину, чтобы выкупить потом жинку и деток, но каждый раз меня ловили и за третьим разом порешили ослепить… Сгнили бы наши кости в буераках татарских, если б вы, пане-атамане, со своими молодцами не вызволили нас, бедных. Не вижу я солнышка не вижу света Божьего, но зато я знаю, что мои детки на воле, что опустят меня не в чужую землю, а в свою, родную…
Теперь я у старшего сына век доживаю… Хотелось бы мне только перед смертью еще раз прийти на днепровские берега и послушать, как шумит старый Днепр, как его резвые волны с ветром перекликаются.