Кидаюсь к двери и принимаюсь рвать ее с петель, стучать кулаками и ногами. На пороге появляется Матильда. У нее засучены рукава, и на руках кровь, но круглое рябое лицо улыбается.
— Бэ-э-э, — говорит она еле слышно.
Но именно эта улыбка заставляет меня повернуться и бежать.
Несусь стремглав и все время спотыкаюсь. Горе гнетет меня, и слезы застилают мои глаза.
САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
С утра до ночи не утихает возня наших коллективистов. Во двор к нам уже не войти. Здесь полно телег, борон, плугов. В воздухе стоят запахи конского навоза, дегтя, ременной упряжи. Даже ночью, лежа в постели, я чувствую эти запахи и слышу, как сладко жуют сено десяток лошадей.
Если б не школа и газеты, я бы теперь не вылезал из конюшни.
Несколько дней подряд я бегал следом за Каминером и помогал ему: в самую рань мчался в слободу звать крестьян, которые учат наших коллективистов пахать. Отец Сролика чуть не покалечил лошадь. Председатель соседнего сельсовета Близнюк ругает его за то, что он слишком сильно нажимает на плуг, — вести его надо легко и смотреть, чтобы отваливался ровный пласт, чтобы была одинаковая глубина вспашки.
В марте наш коллектив имени Ленина выедет в Херсонскую губернию. Сейчас Каминер собрал извозчиков. Они показывают, как надо обращаться с лошадьми, как запрягать, как ездить верхом. Из-за всего этого я бываю очень занят.
Каждый вечер я читаю нашим коллективистам газету, главное — бюллетень о состоянии здоровья Ленина.
Дни нынче коротки. Как только стемнеет, в конюшне зажигают «летучую мышь». Рассаживаются кто где: на соломе, на повозках, — и льется тихая беседа. Говорят обо всем на свете, но больше всего о весне, которая скоро придет, о том, как выедут в поле.
Никогда еще я не видывал таких счастливых глаз, как здесь, когда под потолком горит фонарь, лошади жуют овес, а Каминер рассказывает людям о лете в степи, о высокой пшенице, о Днепре, по которому ходят пароходы.
Когда я после этого вхожу в дом, мне плакать хочется оттого, что я не еду туда, что не буду пахать, не выйду на рассвете убирать хлеб.
Но вот уже третий день, как кончились разговоры о Херсоне. Теперь люди всюду толкуют о Голде. Мама даже стала оплакивать Басю-кожевницу, дожившую до такого позора. Шепчутся из-за того, что позавчера Голда пришла в местечко с ребенком.
Я хоть давно знаю о ребенке, но как-то неловко было зайти к ней. Но раз над Голдой смеются, значит, обязательно навещу. Голду уже посетил Каминер, заезжал Ищенко.
Сегодня вечером я набрался храбрости. Тихонько открыв хорошо знакомую перекошенную дверь в сени, я долго отряхивал снег с ног, потом с бьющимся сердцем взялся за щеколду. Однако приподнять ее я не смог, так как она примерзла.
— Войдите! — услышал я голос Голды, и тотчас открылась дверь.
Открыла мне мать Голды. По-видимому, в сумерках она меня не разглядела, поэтому наклонилась ко мне так близко, что я увидел морщинки на ссохшемся ее лице, седые волосы, выбившиеся из-под черной шали. Она часто-часто качала головой.
— Ах, это ты? — еле выговорила она, затем сразу отвернулась, подошла к маленькому окошку и стала оттирать пальцем лед, намерзший на стеклах.
Голда попросту кивнула мне головой, как если бы мы расстались с ней только вчера.
— Садись, Ошер!
Я разглядываю свивальники, развешенные по всей комнате, и молчу. Однако почему сама Голда ничего не говорит? Тяжело так сидеть.
— Принес вам газеты, — говорю я.
— Спасибо, — отвечает она, но не берет их у меня. Она сидит на скамеечке у плиты и покачивает легкую зыбку.
Отсветы из топящейся плиты ложатся на земляной пол и стену красными трепещущими пятнами. Они падают и на Голду.
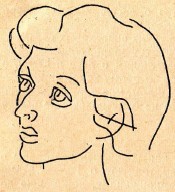
Я замечаю, что волосы у нее стали пышней и мягче, лицо чуть вытянулось и потемнело. И может быть, потому, что накрытая одеяльцем колыбель выглядит как шатер, может быть, из-за пламени в печурке, но Голда представляется мне сейчас цыганкой у костра.
— Чего я сижу? Ну, чего я сижу, ты не знаешь? — Она вскакивает со скамейки и встряхивает, как всегда, головой так, что вся копна черных волос ложится у нее, как причесанная.
Словно не зная, за что взяться, она бесцельно ходит по комнате, затем начинает снимать развешенные на веревках свивальники и пеленки, разглаживать их пальцами и складывать в корзиночку.
— Ну, мама, я ухожу, — говорит она и оборачивается ко мне: — Ошер, поможешь донести корзинку к Троковичеру? Не могу же я бегать сюда из школы! Ладно?
— Ладно, — отвечаю я, хотя мне уже пора на вокзал за газетами. — Голда, — стараюсь я прервать наступившее молчание, — у нас в конюшне находится все имущество коллектива имени Ленина.
— Знаю. Здесь был Бечек. Он все рассказал.
Раз Голда знает о коллективе, мне опять не о чем говорить с ней. А она, как назло, ни о чем не спрашивает.
— Голда, я получил письмо от Магида. — Надо же что-нибудь говорить. Правда, письмо это я получил несколько месяцев тому назад. — Магид шлет вам привет и расспрашивает о вас.
— Ты ему что-нибудь обо мне писал?
— Нет, не писал.
— И не пиши. Сама напишу. Он еще в Харькове?
— Нет, в Москве. Я ему писал, что хочу ехать учиться. Он ответил, чтобы я приезжал.
— И много ребят едет?
— Да, Голда, много. Закончу школу и поеду… И буду писать вам письма.
— Человечек! — Она глядит мне в глаза, и уголки ее губ так улыбчиво приподнимаются, что в темноте сверкает белая полоска зубов. — И кто говорит об отъезде! Послушай, мама, кто тут разговаривает о Москве!
Но мать не отзывается. Голда вновь хмурится. Она надевает жакет и поверх набрасывает шаль. Протянув мне веревочку от колыбели, она просит меня покачать ребенка, пока она сходит за охапкой дров.
Как Голда, присаживаюсь на скамеечку около печки и принимаюсь покачивать зыбку.
— А-а-а, — напеваю я при этом. — А-а-а.
— Дождалась на старости лет! — говорит мать. — Господи! — Я вижу ее воздетые руки, раскалывающие заходящее зимнее солнце. — Отец небесный! Чтоб его так разломило, как он изломал мою жизнь и жизнь моей дочери!..
— В чем дело? Ты опять за то же? — Голда входит и тихонько складывает у плиты дрова.
Бася сразу же перестает плакать. Но она не оборачивается и не отвечает Голде. Видно только, как еще больше дергается голова и трясутся ее плечи.

Усмехнувшись, Голда подходит к кровати и расстилает теплое одеяльце. Затем она наклоняется к зыбке и вынимает оттуда спящего ребенка.
— И ты, Ошер, был когда-то таким карапузом! — говорит она и осторожно берет ребенка на руки.
Предо мной красноватое круглое личико, вздернутый носик и пухлые, чуть приоткрытые губки, сладко чмокающие во сне.
Голда несет ребенка к кровати и закутывает его в одеяло так, что из свертка выглядывает только вздернутый носик.
А Голда, как и раньше, вновь стройная, тонкая, надевает свой казакин, обшитый беличьим мехом, и, повязавшись белым теплым платком, берет на руки ребенка. Я подхватываю ее корзиночку и иду вслед за ней.
— Ну, доброй ночи, мама!
— Будьте здоровы!
Но, выйдя на улицу, которая ведет к базару, Голда останавливается и, отвернув шаль, осторожно оглядывается по сторонам. Затем она поворачивает голову в сторону церкви. Торжественные колокольные звоны, то низкие — басовые, то высокие, разносятся по завечеревшему местечку.
— Суббота сегодня, что ли?
— Да, суббота.
Голда поднимает голову к низкому облачному небу и как будто разыскивает там звездочку. Она, кажется, рада, что нигде в домах еще нет огней.
На вечерней улице почти никого нет. Над синими заснеженными крышами вздымаются дымки. Они то вьются столбом к красно-сизому небу, то, покачиваясь, ползут к земле. Видно, в поле ветер, но здесь от него заслоняют дома. Все же время от времени земля начинает куриться, сыплет снегом в лицо, а колокольные звоны то приближаются, то вдруг уходят куда-то.