У Петра Васильевича есть несколько портретов старика Хлебникова, сделанных еще в 1926 году, во время поездки в Астрахань.
Владимир Алексеевич сидит за столом над своими бумагами, держа папиросу в тонких пальцах, смотрит в упор ясным умным взглядом совсем молодых глаз, таких же зорких, что на студенческой фотографии, таких же спокойно доброжелательных и чуть ироничных, какие видим мы на снимке 1901 года, где представлен он, еще нестарый, черноволосый, в чиновничьем мундире, с женой и детьми — Верой и Виктором. На другом рисунке, где сидит он в раскладном кресле, Владимир Алексеевич выглядит более дряхлым, ушедшим в себя; лицо, погруженное в тень, кажется отрешенным. Для стариков Хлебниковых это было тяжкое время. В 1919 году пропал без вести где-то в огне Гражданской войны сын Александр; (еще одного сына, Бориса они потеряли в 1908 году) в 1922-м умер Виктор; в 1924-м — дочь Екатерина… Все умерли молодыми…
Май; «Иногда, очень редко поминала бабушка „дядю Витю“, но говорила о нем так, что я вряд ли понимал, что дядя Витя — тот самый Велимир, о котором так много и с таким восторгом говорил отец. Правда, и отец, и мама старались, как кажется мне теперь, не напоминать родителям о близкой еще тогда утрате сына. А на чудесное возвращение пропавшего без вести сына Александра — дяди Шуры, бабушка с дедушкой надеялись до конца своих дней.
Прожив около полувека, бабушка с дедушкой обращались друг к другу на „вы“. И, раздражаясь, дедушка говорил: „Вы, Екатерина Николаевна, золотое долото!!!“ Но в отличие от тихой бабушки, дедушка мог и вспылить, и громко прикрикнуть на мои шалости. Но особенно страшно дедушка чихал, издавая звуки, похожие разве что на боевой индейский клич, так что не только я, но, наверное, все обитатели нашей комнаты вздрагивали.
Дедушка с бабушкой прожили с нами около пяти лет. И вот дедушка заболел. Он упал на улице и сломал ребро, а затем случилось воспаление легких. И дедушка умер. Мертвым я его почти не видел. Меня отправили на весь день гулять. А к вечеру его уже в доме не было. Дедушку кремировали и урну с прахом отправили в астраханский заповедник, где он и похоронен. И на гранитном памятнике высечено — „Владимир Алексеевич Хлебников. Директор-организатор“. Было это в 1934 году.
Бабушка пережила дедушку. Более того, может быть, в первый раз за эти годы мы выехали на лето на дачу в Звенигород, конечно, взяв и бабушку. И там, на воздухе, бабушка лучше себя почувствовала. Но я так, видимо, ошалел от вольной жизни, что совсем мало помню о бабушке».
Лето 1935 года в Звенигороде запечатлелось в целом ряде рисунков Петра Васильевича. Очень лирическом, совсем деревенском пейзаже с плетнем на первом плане, за которым вздымают свои кроны невысокие деревья; с избами слева и «кулисой» большого дерева справа — карандашном рисунке, сделанном тонким серебряным штрихом и легкой серой «затиркой» неба; в черных контрастных рисунках тушью столь любимых Митуричем заборов с тонкими прутьями плетней и острыми кольями частоколов.
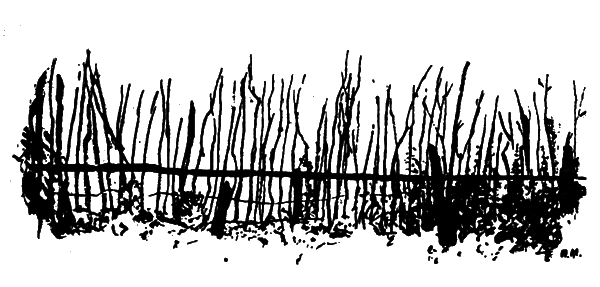
Май: «Целыми днями удили мы с мальчишками мелкую рыбешку, до посинения купались в Москва-реке. Слегка оправившись в деревне, по возвращении в Москву бабушка снова стала слабеть. Ей все казалось, что дует, и она куталась в платки. А в 1936 году, ни на что не жалуясь тихо скончалась»[255].
«У нее развилась боязнь холода, она закутывалась в теплое и очень боялась простуды. Такое кутание ее очень изнежило, и зимой, когда у нас в комнате температура снижается ниже 10 градусов, она простудилась»[256], — уточняет Петр Васильевич.
Май: «Наверное, мама горевала и по дедушке, но тогда оставалась еще бабушка, и горе было не так заметно. Но кончина бабушки ввергла ее прямо-таки в неутешное горе.
П.В.: „Вера боготворила мать, свою Катюшу, как она ее называла“[257].
Май: „Вспоминая о кончине дедушки, я забыл о загадочном, повергшем в общем-то не суеверную мою память в смятение, происшествии. У дедушки было маленькое карманное зеркальце (зерькило, как говорил он по-старинному). Так вот, разбирая вещицы покойного, мама обнаружила, что зеркальце это совсем почернело. Почерневшее зеркальце вместе с многими другими хлебниковскими вещами теперь в музее Велимира Хлебникова, в Астрахани.
Бабушку тоже кремировали, урну захоронили у крематория в Донском монастыре“[258].
„Милый сынок, помни… необычайную бабушку, для которой ты был радостью, — писал зимой 1945 года Петр Васильевич Маю на фронт. — При твоем приближении у нее разглаживались морщины. Она никогда не смеялась, а улыбалась лишь тебе“[259].
„…Зимой, когда у нас в комнате температура снижается ниже 10 градусов…“ — Митурич говорит об этом как о чем-то вполне обычном, чуть ли не нормальном. Практически невозможная жизнь, кажущаяся сейчас немыслимой, невыносимой. В 30-х годах так жила едва ли не вся наша интеллигенция.
Что это было за „житие“, во что превращен за полтора десятилетия советской власти дом на Мясницкой — ярко встает из воспоминаний Мая Митурича. В его детском преломлении возникает мир его родителей, их „гнездышка“ на девятом этаже кирпичного здания, бывшего когда-то типичным доходным домом» Москвы начала века с шикарными барскими квартирами с парадного подъезда и «черным ходом» для прислуги со двора; в начале 1920-х превращенного в коммунальное обиталище художников и поэтов…
Май: «Надо сказать, что и на нашем черном ходу когда-то был лифт, грузовой. Действующим его никто не помнил. Но вот однажды явились рабочие и выломали все металлические двери, оставив разверзнутую лифтовую шахту. Ломая каменные ступени лестницы, сволокли электромотор и увезли куда-то. Лифтовая шахта долго оставалась открытой, наводя ужас на маму. Туда в девятиэтажную бездну и правда хотелось заглянуть, и захватывало дух, и кружилась голова. Потом, спустя годы, проемы шахты заколотили досками, а в помещение от лифтового мотора, где как раз помещалась кровать, заселился домовый слесарь дядя Никита с женой. Оба крупные — как они там помещались? И жили, без воды, без „удобств“! Правда, воду дядя Никита-слесарь как-то добывал из труб на чердаке, там же и справлял нужду.
Дядя Никита, нужный всему дому всегда, особенно нужен был зимой. Очередной управдом, а они менялись чуть ли не всякий год, получив в доме жилье, уступал место следующим. Так вот, управдом, как говорили, для экономии тепла распорядился снять батареи почти на всех этажах нашей лестницы, оставив лишь в самом низу. И в морозы, тем более что дверь на улицу, с сорванной пружиной всегда была нараспашку, батареи замерзали и лопались, вслед за батареями замерзала и вода, и весь дом ходил с ведрами за водой во двор. Аварии эти цепной реакцией распространялись на квартиры. И тогда согревались лишь газовой плитой, но бывало и так, что останавливался и газ! Тогда, помню, отец приспособил для подогрева еды электрический утюг…»[260]
Жизнь семьи Петра Митурича в этом загаженном, превращенном в форменную ночлежку доме была донельзя скудной, близкой к настоящей нищете.
П.В.: «Я немного преподавал архитекторам, но больше дома выполнял графические работы, ничем не брезгуя, вплоть до перерисовок с фото и ретуши, но и этой работы было мало…»[261]
«3 августа 1932 года. Акт описи имущества, недоимщик Митурич.
Стол 1 — оценка 30 р.
Кровать 1 — оценка 30 р.
Стул 1 — оценка 5 р.»
255
Митурич П. В. Вера // В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 87.
256
Указ. соч. С. 87
257
Указ. соч. С.73.
258
Митурич М. П. Воспоминания.
259
Митурич П. В. Письма // В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 144.
260
Митурич М. П. Воспоминания.
261
Митурич П. В. Вера// В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 85.