Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Летом 1826 года у Пушкина была еще одна встреча, которую нельзя не отметить. Это встреча с двадцатитрехлетним поэтом Николаем Михайловичем Языковым[684], товарищем А. Н. Вульфа по Дерптскому университету. Пушкин со свойственной ему благожелательностью, познакомившись со стихами Языкова, признал и хвалил их и, кажется, очень хотел познакомиться с юным поэтом. Но этот юный поэт долго упрямился и не ехал в Опочский уезд, а в письмах к брагу отзывается о стихах Пушкина со смешным высокомерием. Даже стихи «Бахчисарайского фонтана» кажутся ему вялыми и невыразительными… Забавны его отзывы и об «Онегине»: «Онегин мне очень, очень не понравился; думаю, что это самое худое из произведений Пушкина…» Однако шесть недель, проведенных в деревне в обществе поэта, повлияли на Языкова. Он был побежден блеском его ума и благородством сердца. Позднее он опять ворчал и на «Сказки» Пушкина, и на «Повести Белкина»[685], но там, в Тригорском, он был в плену пушкинской музы. А Пушкин, не подозревая в Языкове ни зависти, ни задних мыслей, послал ему, еще не будучи с ним знаком, осенью 1824 года послание «Издревле сладостный союз…» шедевр этого жанра. А когда Языков уже после жизни в Тригорском написал Пушкину стихи «О ты, чья дружба мне дороже…»[686], где воспевает вино, «плоды сладостной Мессины[687]» и «стаканы-исполины», а о самом поэте наивно говорит как о равном ему товарище по ремеслу, Пушкин, ничуть не обидевшись, послал ему вторую пьесу «Языков! Кто тебе внушил твое посланье удалое?»[688] — стихи, которые неизмеримо лучше, точнее и смелее выражают хмельную тему трезвого Языкова.
В середине декабря 1825 года в два утра была написана Пушкиным повесть в стихах «Граф Нулин». Сам поэт признается в одной из своих заметок, что поводом для написания этой шутливой повести в жанре «Беппо» послужило чтение поэмы Шекспира «Лукреция»[689]. Первоначально Пушкин хотел пародировать античный сюжет, но дело было не в пародии, а в изумительном реализме этого анекдота. Когда повесть была напечатана в 1828 году, критики (особенно Надеждин[690] в «Вестнике Европы») возмущались «низким стилем» и нескромностью повествования. А между тем «Граф Нулин» (так же как и четвертая и пятая главы «Онегина», над которыми тогда Пушкин работал) был победой реализма. Нам сейчас трудно себе представить тогдашнее впечатление читателей от новизны пушкинского повествования. В «Графе Нулине», так же как в «Онегине», средняя помещичья усадьба с ее дворянским бытом и крепостным укладом предстала во всей своей ничем не прикрытой наготе. Пушкин не польстил этой усадьбе. Он как будто добродушно, а на самом деле беспощадно высмеял ее.

Пушкин. Фрагмент. Ж. Вивьен. 1826

Пушкин в Михайловском. П. П. Кончаловский. 1930-1951
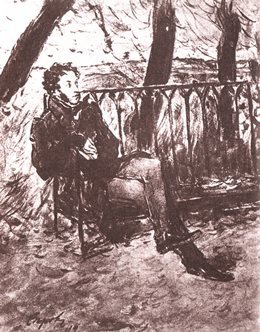
Пушкин в парке. В. А. Серов. 1899
Глава девятая. «СВОБОДНО, ПОД НАДЗОРОМ…»
I
Это было время, когда казалось, что корабль Российского государства плывет без кормила. После 1814 года, после того как Бонапарт, «сын революции ужасной», был разбит союзниками и русский царь со своими «казаками» вошел триумфально в Париж, прошло десять лет. От либеральных мечтаний Александра ничего не осталось. Двусмысленный мистицизм близких к императору лиц, изуверство некоторых сомнительных ревнителей православия и холодная пышность официальной церковности вот что было на виду у всех, а что было в недрах народной жизни, оставалось под семью печатями. Там, на бесконечных равнинах России, раскинулись тощие пашни, нищие деревни: капитаны-исправники[691] скакали от Горюхина до Горюхина[692], блюдя порядок; дворяне-помещики, смутно догадываясь, что патриархальный строй отживает свой век, беспокоились о судьбе своих владении и привилегий, а молодые из них, успевшие познакомиться во время европейских походов с западным либерализмом, мечтали о власти и свободе, разумеется, прежде всего для дворян. В северной столице и в южной армии заговорщики разговаривали по ночам за бутылками вина о цареубийстве да и вообще об истреблении всей царской фамилии вплоть до последних младенцев. Если гаврдейцы задушили Павла Петровича, почему не задушить теперь Александра Павловича?
А сам император, когда-то поощрявший тайные общества и посещавший заседания масонских лож, медлил учинить расправу над заговорщиками и в припадке странной меланхолии уехал в Таганрог, бросив государство на произвол судьбы.
Пушкин не любил императора Александра. Патриотические восторги эпохи наполеоновских войн давно погасли. Ему был неприятен этот человек, двуликий и непонятный. Ощущая мир как полноту бытия, чувствуя живую землю как мать, как прекрасную стихию, Пушкин не мог мириться с отвлеченным мистицизмом Александра. Поэт ненавидел царских любимцев. Грубость Аракчеева была так же противна, как и пиетизм Голицына[693].
И, однако, презирая царя и его правительство, Пушкин в эти годы Михайловской ссылки размышлял о смысле истории совсем не так, как его недавние друзья-вольнодумцы. «Думы» Рылеева кажутся ему не слишком глубокими. История представляется поэту как великая трагедия. Он не верит теперь, что грубость, жестокость, мрачное невежество легко устранить, изменив политическую систему. Этого мало. Нужно еще что-то. Когда-то на Украине, в Каменке, над ним, поэтом, шутили эти аристократы-вольнодумцы, намекая на существующий заговор и, однако, давая понять, что они не считают его, Пушкина, подходящим для участия в революционном деле. Да и ранее, в Петербурге, всегда было так. Теперь поэт и сам сознает, что участие его в каком-нибудь тайном обществе было бы напрасным. Он так поглощен собою. Идеи и образы толпятся в его душе. Нет, лучше оставаться хорошим поэтом, чем быть плохим политическим деятелем, а настоящим революционером он все равно не станет, потому что он утратил веру в возможность одолеть российскую косность и рабский дух. Еще в 1823 году, до Михайловской ссылки, Пушкин писал, что тщетно он «в порабощенные бразды бросал живительное семя»[694].
Правда, несмотря на охлаждение Пушкина к политике, репутация опасного для правительства человека все еще занимала его воображение. Но Пущин сказал, что Пушкин «совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения». И Пушкин добродушно согласился с этим. Но тем обиднее все еще томиться в этом заточении, не имея возможности видеть многообразие мира. А оно так нужно поэту!
Мы знаем уже, как страстно мечтал Пушкин вырваться из ненавистного плена. С весны до конца 1825 года он ведет переписку с близкими людьми о своем мнимом аневризме[695], чтобы под предлогом болезни выехать в Дерпт или в Ригу, откуда он думал тайно бежать за границу. Мы знаем, что его план кончился неудачей. Вероятно, к концу октября относится его проект письма к императору Александру. Ему казалось тогда, что его забыли, что жизнь его пройдет зря, и болтовне с провинциальными барышнями в Тригорском. Он вдруг решил написать царю. Надо было как-то объясниться с Александром Павловичем. Ведь Пушкину было всего лишь двадцать лет, когда его выслали из столицы. Хорошо, однако, что он, Пушкин, не послал тогда этого сумасшедшего письма[696].
Но тем не менее поэт изнемогал в страстной жажде новых впечатлений. Бывают натуры, способные даже в заточении, следя за плывущими облаками сквозь решетку тюремного окна, находить какое-то удовлетворение в этом созерцании ничтожных клочков вселенной. Не таков был Пушкин. С жадным любопытством он искал безмерных богатств мира. Так, по крайней мере, было, пока его не замучила суетная ненависть царедворцев и лакейская низость жандармов. В 1825 году эта жажда многообразных впечатлений такой была пламенной, что он готов был на какое угодно опасное приключение. Бежать! Бежать во что бы то ни стало из этой нищей патриархальной деревни. И он не утратил еще надежды на побег. Только бы выбраться ему из Михайловского, попасть тайно в столицу, и он найдет способ бежать куда-нибудь на волю, прочь от этих унылых равнин крепостной России…