Дед проворно переменил бересту, и снова яркое пламя осветило ствол и глухаря на сучке. Он испуганно вертел головой, но не летел, ослепленный светом.
Мы стояли и не верили своим глазам.
В этот момент берданка деда тявкнула тонким дискантом, и глухарь камнем упал к нашим ногам.
— Непуганые у нас петухи-то, — сказал дед, меняя бересту.
Он взвалил глухаря на плечо, и мы пошли обратно к костру.
— Другой, пуганый, сорвется и лететь, — продолжал дед, — но, как курица, ночью со света взлетит и сразу о ствол или в сучья тыкается, хлопает, шумит, когда сядет, а когда упадет на землю — все равно не уйдет. И сколько я их прибил — страсть, и только один раз глухарь спал не у ствола, а на конце ветки. Этот поднялся и пошел над лесом, как только она осечку дала. Редко когда с первого раза разбивает пистон, проклятая, — досадливо закончил дед.
Мы были поражены. О такой охоте на глухарей не написано ни в одной книге.
Но вот мы у костра. Дед бросил убитого глухаря на землю и раздул огонь. Откуда-то из темноты вынырнула Муська, подошла, трясясь от холода мелкой дрожью, с равнодушием комнатной собачонки понюхала глухаря и свернулась около костра калачиком, спиной к огню. Она не бегала за дедом по лесу, а привыкла терпеливо ждать его у костра.
Через полчаса второй глухарь был брошен на землю около костра, рядом с первым.
— Ну, ребята, прощайте, мне пора, — сказал дед. — Заходите в городе, гостями будете. — И он назвал свой адрес. — Факел — это первое дело на глухаря. Мы тут век так охотимся, от дедов еще обучены, а то скажете же скакать под песню! Разве их утром убьешь? Он тогда каждый шорох слышит и от ствола дерева уходит на концы веток.
Мы простились с дедом и долго смотрели в темноту, откуда раздавались хруст хвороста и шлепанье сапог по лужам. Мы не жалели больше о том, что нам придется вернуться домой без выстрела.
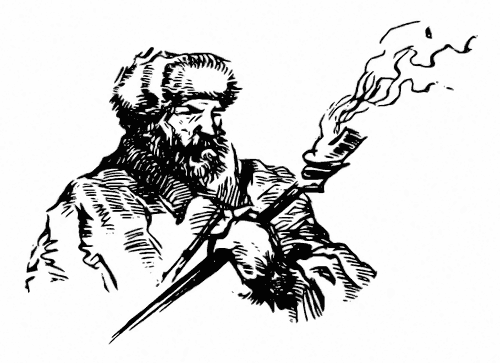
Ефим Пермитин
ВЕСЕННИЙ ШУМ
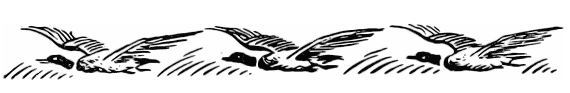
Ночью загудел сосновый бор. Густой влажный ветер метался в нем до утра. А на заре дождевые облака набежали. И стало тихо; слышно было, как падали комья снега с ветвей.
Теплый дождь зашелестел по крыше леса и, не переставая, шел все утро, день и следующую ночь, тогда и умер снег.
Немощно-бледный лежал он в низинах. А на холмах задымился парок: земля там раскрывала глаза и дышала легко и радостно.
В глубине леса пучилось, глухо вздыхало моховое болото, окутанное туманом.
Было еще совсем темно, а все проснулось в лесу, готовилось к встрече солнца.
Дятел высовывал железный свой клюв из дупла и снова прятался.
Глухарь выбрался из крепи чапыжника, с места ночевки, и, сорвавшись, зазвенел крыльями, направив свой полет к токовищу.
Проснулся и лесник Алексей Матвеич, разбудил сына Гордюшу. Они тихонько вышли за дверь и прислонились к стене домика.
А на земле и в воздухе творилось необычайное. Звон птичьих крыл рассекал воздух: неслась стая за стаей. Волнующий говор крылатых странников из-под небес проникал в душу мальчика и его отца.
Какое-то неизъяснимое, неведомое и в то же время знакомое чувство трепетало у них в сердцах, не давало им спать в весенние ночи, манило вдаль. Чувство это властно живет в душе человека. Кто не ощущал его в первые дни весны!
Еще яркие звезды висели над головой. Только-только зазеленел на востоке окраек неба. Тихо и торжественно отбивала последние минуты ночь.
И вдруг из глубины леса, с мохового болота, полились серебряные звуки, словно через все небо протянул кто-то невидимую струну и нетерпеливо трогал ее.
Чище и чище льются на весь лес ликующие звуки: то проснулись прилетевшие ночью журавли.
Так началась весна.
Наконец-то отец сказал:
— Ну, Гордюша, собирайся, пора.
Мальчик выбежал на двор, постоял, подождал и — снова в дом, а отец все еще одевался.
…Кочкастая, точно в бородавках, луговина в лужицах талой воды и в них по-весеннему ясно отражается зарозовевшее небо.
С кочки сорвался чибис и, ныряя в воздухе, бросался на охотников.
— Чьи вы? Чьи вы?.. — пронзительно закричал он, прогоняя незванных гостей с занятой им полянки.
— Мы-то Рокотовы. А вот ты чей, голоштанник? — засмеялся Алексей Матвеич.
Гордюше было забавно и слышать разговор отца с птицей, и видеть, как «голоштанник»-чибис, с тонкой косичкой на хохолке, сев в сторонке, мелко перебирая морковно-красными ножками, воинственно распушившись, бежал им навстречу и взлетал только в нескольких шагах от них. Набрав высоту, он падал, выделывая в воздухе невероятные курбеты. Чибис преследовал их, пока они не вышли в голый, прозрачно-сквозной березовый лес.
В березнике они встретили еще более забавного чудака. Как тот чибис, он обнаружил себя криком:
— Го-го-го Хо-хо-хо!.. — несся с лесной поляны широкий гогот. Вслед за бесовским хохотом раздался такой оглушительный треск крыльев по дуплу колодины, точно вдруг загремели в несколько барабанов или забили в ладоши.
— Ишь развоевался, буян! Смотри, Гордюша! — указал отец на самца белой куропатки.
Куропач, казалось, сошел с ума или был пьян. Он подпрыгивал и перевертывался через голову. Вскакивал на кочки, на колодины. Распушится, припадет к земле и захохочет.
Куропач еще по-зимнему ослепительно бел. Распушенный хвост, взъерошенный ожерелок и раскинутые крылья петушка делали его вдвое больше.
Да, куропач был пьян запахами согревающейся земли, набухающих почек.
Пьян был и бекас, кувыркающийся в воздухе. И невидимый жаворонок в поднебесье.
Но, конечно, больше всех пьяны были бесившиеся недалеко от шалаша, на лесной полянке два зайца…
Все, что подсмотрели в лесу в тихий весенний вечер Алексей Матвеич с сыном, походило больше на сказку, на чудесный весенний сон.
Они сидели в шалаше и смотрели, и слушали шум леса, охваченного ликованьем…
Павлиний хвост зари выцвел. Набежали тени, окутали пни и деревья. Над поляной, похоркивая, пролетел вальдшнеп. В лицо пахнуло теплом. Запахи земли стали острее. Небо расцвело золотыми чашами роз. Серп луны, как лодка из тростников, вынырнул из таинственных глубин и поплыл по небесному своду. Кроткая тишина обняла землю.
Вокруг костра темнота сомкнулась плотным кольцом. Отец, и сын разобрали охотничью сумку: и яйца, и масло, и молоко, и любимые коржики Гордюши…
Лица охотников от жаркого огня, казалось, вот-вот расплавятся.
От обступивших со всех сторон деревьев и кустарников шел могучий запах весны. Казалось, каждое из них пахло по-своему… И черносмородным вареньем, и раскушенной на зубах морковью, и березовым и сосновым соком. Запахи кружили голову Гордюше.
Во тьме вызванивала талая вода. Густым басом гудели жуки.
Заснул мальчик незаметно, как показалось ему, на одну минуту, а Алексей Матвеич уже будил его.
Дымок от затушенного костра пощипывал заспанные глаза. Отец стоял с сумкою за плечами и с ружьем в руках.
— Пора, — сказал он.
Мальчик вздрогнул и вскочил на ноги.
За ночь золотая ладья уплыла далеко по звездным волнам. Небо было все такое же густо-синее и только на востоке чуть хваченное отбелью…
Все было таинственно и до дрожи волнующе в это утро. И как шли в темноте к шалашу, и как сели, затаившись.
Урчание белки над головой, стукнувшаяся о землю сосновая шишка на холме взрывали тишину, как выстрел, отдавались в сердце Гордюши.
Еще ничего нельзя было различить в предрассветной мгле, а лес уже наполнялся гулом кипучей жизни.
Задушенные всхлипы совы, мяуканье, фырканье зверушечьей мелкоты, хрюканье хоря… В корневищах тальника, недалеко от шалаша, призывно пропищала самочка ласки. И тотчас же во тьме ей отозвался, замурлыкал самец.
Казалось, лес запевал могучую дневную запевку, нарастающую с каждой минутой.