— Это — жизнь!
Тропинка завела нас в лес и там потерялась среди высоких кочек и грязных сугробов. В мокром зернистом снегу ноги тонули до самой земли, и ямки тотчас же наполнялись холодной, свинцовой водой. Путь то и дело преграждали розовые от зари лужицы, уже начавшие покрываться тонкой ледяной коркой. Стало темнеть, когда мы поднялись на обширную возвышенность. Впереди показались могучие сосны, уходящие вершинами в небо. Это и был медвежий бор, знаменитый во всем округе своими глухарями, черникой и белыми грибами.
Стараясь не шуметь, мы углубились в чащу, и когда погасла заря, остановились у дерева, с корнями вывороченного бурей.
— Садись! — шепнул Егор Савельич. — Теперь наше дело — слушать.
Я опустился на толстый ствол, лесник осмотрелся по сторонам и тоже сел рядом со мной. Над шапкой старика долго раскачивалась задетая им тонкая веточка, с тихим шорохом выпрямлялся примятый сапогами мох, и эти еле уловимые звуки лишь подчеркивали висящую над бором глубокую тишину.
Не знаю, сколько времени мы так просидели, но мне помнится, что в лесу стало совсем темно, когда Егор Савельич, слегка поворачивая ко мне голову, прошептал:
— Скоро…
И словно в ответ ему где-то совсем близко раздался сильный шум крыльев могучей птицы. Внезапно все умолкло, и я невольно подумал: уж не было ли это обманом напряженного слуха? Но тут лесник спокойно начал счет:
— Один!..
И загнул мизинец.
Снова наступила тишина. Из глубины леса донесся отдаленный шум: это тронулась вниз по речке верховодка. Над полянкой неслышно пролетела сова и, мелькнув на сумеречном небе, скрылась в темноте. Потом одновременно, только в разных местах, на деревья взлетели еще три птицы. Одна из них села почти над нашими головами, и я боялся шелохнуться, чтобы она меня не заметила. Только лесник, казалось, не обращая ни на что внимания, продолжал загибать пальцы:
— Два, три, четыре!..
Досчитав до двенадцати, он разжал пальцы и, закинув за плечи ружье, поднялся. Мы бесшумно отошли в сторону почти на километр, и лишь там старик, захлебываясь от радостного волнения, заговорил:
— Ну, завтра только успевай разворачиваться. Ведь целая дюжина!
В густом ельнике, на сухом склоне, мы развели костер, и Егор Савельич, подкидывая в огонь ветки, начал бесконечные охотничьи рассказы. Многие из них я уже слышал раньше, но сейчас описание различных эпизодов претерпело такие коренные изменения, что стало совершенно неузнаваемым. И потому, когда лесник закончил одну историю, я осторожно произнес:
— Помнится мне, Савельич, что ты уже рассказывал мне об этом. Только тогда ты говорил, будто волка перепугала до смерти лиса, а не заяц.
— В самом деле? — удивился старик. — Что-то не помню. История с зайцем — настоящая, мой дед ее своими глазами видел. Ну, а если уж зайчишка такое сотворил, то почему бы не сделать этого и лисице? Могло быть… даже наверняка было, только я про то сейчас запамятовал…
Я долго слушал лесника и, прислонясь спиной к толстой ели, смотрел вверх, где плясали крупные искры и клубился голубой дым. Потом все спуталось, исчезло, голос старика стал доноситься будто из глубокого колодца, а затем умолк совершенно. Когда же я очнулся, Егор Савельич стоял, склонясь надо мною, и легонько теребил за рукав полушубка.
— Пойдем! — услышал я сдержанный шопот, и машинально поднялся на ноги.
В лесу было попрежнему темно, лишь на востоке едва-едва намечалась узенькая светлая полоска.
— Ты ступай прямо, я возьму левее, — сказал лесник и бесшумно исчез между деревьями.
Стараясь не сбиться с пути, то и дело натыкаясь на кочки и валежник, я вышел к окраине бора и остановился. Где-то совсем близко должна была находиться сваленная бурей сосна, на которой мы вчера сидели. Дальше итти я не решился, боясь вспугнуть глухарей.
Стоял глухой предрассветный час, лес еще казался мертвым. Только с речки доносился чуть слышный, ровный шум воды. Где-то треснула льдина, и этот неожиданный звук заставил меня испуганно вздрогнуть.
Потом среди кустов вполголоса тенькнула синица, но тотчас же умолкла. В бору опять разлилась настороженная тишина.
И вдруг впереди, за соснами, в тишину вплелось что-то новое, необычное, напоминающее легкое щелканье кастаньет:
— Тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ…
И — оборвалось…
Это была песня, волнующая песня весны и любви!
Пальцы впились в холодный ствол ружья, глухо застучало сердце. Тонко, по-комариному, зазвенело в ушах. Я слышал, как невидимая птица расправила свои большие крылья, уронив на снег чешуйку сосновой коры.
Прошла минута, а может быть, двадцать… Охваченный страстью, я стоял неподвижно, боясь вспугнуть глухаря неосторожным движением.
И когда пальцы левой руки начали коченеть от холодного металла, песня зазвучала снова. Теперь глухарь пел громко и уверенно:
— Такэ-тэкэ-тэкэ! Кочивря… кочивря…
Я быстро и сильно прыгнул вперед, на мгновение приостановился, снова прыгнул. Гибкая ветка сорвала с головы шапку, я хотел ее быстро поднять, но глухарь умолк, и мне пришлось застыть в случайной, страшно неудобной позе. К счастью, птица скоро запела опять, и я, прыгая через валежник и кочки, бросился дальше.
И вот глухарь пел уже совсем близко, мне даже казалось, что я слышу, как он чертит по суку концами распущенных маховых перьев. Я долго всматривался в густую крону стройной сосны, пока не заметил, как среди веток на посветлевшем небе шевельнулось что-то большое, мохнатое, черное. Это был глухарь!
Выждав, когда птица начнет петь, я выстрелил. На один миг воцарилась тишина, потом глухарь, широко раскинув крылья, рухнул на землю. Вслед за ним на мокрый снег мягко упало несколько ссеченных дробью веточек, застучала по сучьям сухая шишка, и все опять замерло. Только черное перышко долго еще кружилось в воздухе.
Глухарь лежал на усеянной сосновыми иглами проталине, откинув назад большую голову. Когти могучей лапы судорожно впились в землю, в открытых глазах застыли отблески весенней зари.
Подняв добычу, я закинул ее за плечо, и, не знаю почему, мне стало грустно. Поодаль затоковал другой глухарь, но итти к нему уже не хотелось. Постояв под сосной, я медленно направился к месту нашей ночевки.
Егор Савельич возвратился после восхода солнца. Бросив на землю двух глухарей, он устало сел возле костра и, протягивая к огню озябшие пальцы, восхищенно проговорил:
— Давно я так не охотился!
Напившись чаю, мы двинулись к дому. И по мере того, как приближалась сторожка, старик все более горбился и мрачнел. Я понимал причину, и по опыту знал, что пытаться его сейчас развеселить — бесполезное дело.
Еще издали мы заметили, что тетка Домна копается на огороде. Увидев нас, она взялась за работу с подчеркнутым усердием.
— Чего ее вынесло в этакую рань? — пробормотал Савельич. — Дня разве мало? Видно, хочет показать, что ей приходится работать от темна и до темна, а муж только по лесу разгуливает…
Лесник перелез через изгородь и, подойдя к жене, положил на грядку добычу. Это, казалось, страшно оскорбило тетку Домну. Подцепив глухарей вилами, она молча швырнула их далеко в сторону и, не взглянув даже на оторопевшего мужа, ушла в избу, громко хлопнув дверью.
Егор Савельич постоял, почесал в затылке, потом поднял глухарей и тяжело вздохнул:
— Ничего!..
Прощаясь со мною, лесник, с опаской поглядывая на дверь, сказал:
— Приходи послезавтра…
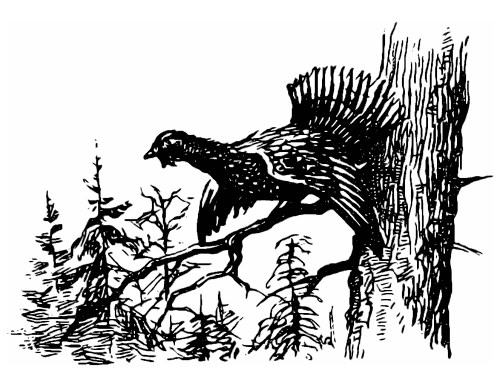
Никандр Алексеев
БЕЗ ПРОМАХА
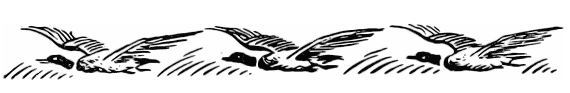
С первым идущим вниз пароходом я отправился на охоту в село Бибеево, разбросанное на правом берегу Оби. Прямо к селению подступал высокий кедрач. В бору токовали глухари и косачи, а на левой стороне Оби — заливные луга, озера и болота, где весной останавливается много пролетной птицы.
Место было мне незнакомое. Но у меня было письмо к председателю колхоза товарищу Брагину, хорошему рыболову и страстному охотнику. Да и весь колхоз был рыболовецкий и охотничий. Посевная площадь была небольшая, леса и болота ограничивали посевы. Прямо с парохода услужливые и неравнодушные к охотникам мальчишки отвели меня на квартиру председателя. Он только что вернулся с рыбной ловли. На вид ему было лет тридцать. Гладко выбритый, мускулистый, он говорил медленно, грамотно и больше был похож на городского человека, чем на сельского жителя.