Вот мы стоим на вершине кряжа. Луна закатывается за дальние леса. Перед нами спуск, а после — ровное большое поле, равнина, лесок, а за тем леском должна быть деревня Пеленга. Весь путь — десять километров. Карельские километры узкие, но длинные, очень длинные.
Я вспоминаю сразу приказ.
Собираю отделение.
Позади слышится неровное, плотное дыхание карабкающихся на коленях.
Рядом стоит Антикайнен с быстрым, но утомленным взглядом.
Мы вышли утром, и скоро начинается новое утро.
— К спуску!
— Ты должен был делать так, — бубнит Тойво, обращаясь к смущенному Лейно: — выбрать себе один камень, как делал я, и думать: «Вот теперь я во что бы то ни стало доберусь до этого камня», и выбрать камень близкий, шагах в десяти от тебя. Ну, до этого камня доберешься — кончено, намечай себе другой, метров так за пять; и опять же, неужели тебе, как бы ты ни утомился, не пройти эти пять метров? Чепуха! Конечно, пройдешь. Ну, прошел — передохни, осмотрись и опять нацелься метров на пять. Поверь мне, как бы ни устал добрый парень, а метров с шесть проползет всегда. Так, глядишь, ты уже на вершине.
Я скомандовал надеть лыжи. И мы пошли вниз.
Лететь вниз — это даже после такого подъема одно удовольствие.
Равновесие у опытного лыжника регулируется как бы автоматически; где надо оттолкнуться, где надо наклониться, даже присесть на корточки, а где можно и прямо стоять, вдыхая морозный воздух.
Неопытного лыжника при спуске может опрокинуть даже едва заметная глазу кочка.
Так и случилось с Тойво.
Он сдуру пошел на спуск первым и, не успев долететь до подошвы, опрокинулся и, дважды перевернувшись в воздухе, отпустив убегающие вниз лыжи, остался лежать в снегу. Следующий за ним парень, споткнувшись о него, брякнулся тоже, на того — второй, третий, образовалась живая барахтающаяся куча с торчащими из снега стоймя штыками, валяющимися остроконечными палками.
«Пуще всего не хочу я погибать от такого дела», — мелькнуло у меня в голове, и в мгновение, равное, может быть, одной тысячной доле секунды, я оглянулся и увидел, что по этому следу, проложенному Тойво, вслед за мной быстро-быстро по склону скользит уже десятка два бойцов.
Катастрофа, катастрофа!
Кто сумеет на лету свернуть в сторону, обогнуть эту живую, барахтающуюся кучу людей, штыков, подсумков, лыж, палок, гранат?
Но в то же мгновение шедший впереди меня Лейно изогнулся и, напрягая все свои силы, свернул в сторону.
Я не знаю, сумел ли бы сделать такой поворот кто-нибудь другой.
По следу Лейно проскочил я, за мной по проложенной лыжнице пролетели другие.
Вперед! Останавливаться нельзя!
Я собрал отделение и повел.
Кроме царапин, полученных в этой свалке, к счастью неглубоких, никаких ранений ни у кого не было. Если бы, однако, куча выросла, несколько глубоких ран — в лучшем случае — было бы не избежать.
— Из-за твоего обмана, из-за твоей глупой настойчивости чуть не произошла катастрофа, — сказал я Тойво, — ты сам легко мог сломать себе шею.
— Ну, нет, здесь я не погибну, — пытался отшутиться Тойво. — Моего брата и то только мог взять снаряд кронштадтской восьмидюймовки, а ведь он был только лишь простой социал-демократ. А здесь, на фронте, у белых таких орудий и нет, чтобы меня взять... К тому же я коммунист, и меня меньше чем двенадцатидюймовым не возьмешь.
— Потом из-за тебя могли погибнуть и уже не раз... другие товарищи, — резко прервал друга Лейно.
— Ты прав, Лейно, — уже извиняющимся тоном, смущаясь, отвечал Тойво. — Но теперь уже поздно...
Такого виноватого лица я до сегодняшнего дня у Тойво никогда не видал.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Встреча с лахтарями. Буденновец
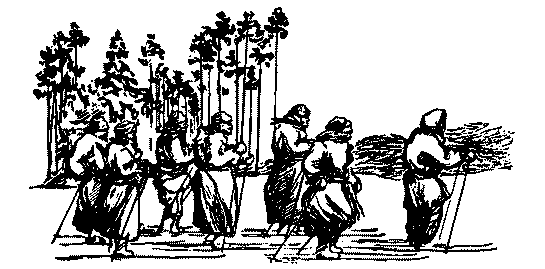
Отряд получил часовой отдых.
Мы же, назначенные в разведку, должны были итти немедленно. И мы пошли.
Я разделил отделение. Отделение шло на полкилометра позади меня под командой Лейно. Сам же я отправлялся в разведку, вперед.
Путь шел сквозь бездорожный лесок.
Мерно раскачивались, осыпая снег, мохнатые ветви.
Проходили стволы, шуршал уминаемый лыжами снег.
Точно так же, около года назад, я находился в глубокой разведке. Тогда наша разведка-рейд должна была отрезать подвоз из Финляндии в бунтующий Кронштадт; подвоз шел по льду Финского залива, Маркизовой лужи. И вот я увидел близкие огни поселка Инно. Я сам оттуда родом, и вся моя семья проживала там, и по сей день там живет отец-старик с матерью. И Айно, моя Айно, тоже — я знал — жила тогда со стариками. Наш дом стоит у самого берега моря, и берег этот был от меня всего лишь в тысяче метров. И окна дома нашего были освещены. И я пошел ближе к берегу, стараясь в тишине морозной ночи услышать скрип полозьев саней, везущих продовольствие «клешникам». Я подошел близко к берегу, выполняя задание разведки. Дом отца (все воспоминания детства) был всего в ста метрах от меня.
На пороге показалась женская фигура; это могла быть моя старая добрая мама или дорогая Айно; я не видел их с весны 1918 года, с дней разгрома нашей революции.
«Я зайду обнять стариков, — подумал я, — ведь никто никогда не узнает о нашей встрече, о моем заходе».
«Нельзя, ты ведь в разведке», — уговаривал я себя и остановился.
Я смотрел на домик, где старики, наверно, тоскуют о своем единственном Матти, где Айно...
Свет из окна желтым квадратом ложился на снег. Женщина на крыльце выплеснула из ведра воду и вошла в дом, захлопнув за собой тяжелую дверь.
Я сделал шаг вперед; я стоял десять минут вблизи дома, смотрел на него и думал.
Потом круто повернул и пошел дальше, продолжая разведку.
В тот вечер я захватил и привел к нам четыре подводы с хлебом, шедшие в Кронштадт из Териок. Белому офицеру, сопровождавшему сани, посчастливилось: он ускользнул под прикрытием тьмы, осыпаемый оголтелой бранью возчиков; на подводе остался лишь его портфель с бумагами, с документами на имя штабс-капитана Верховского. Самого штабс-капитана и след простыл.
Усталость бессонных суток и утомительного перехода в такой сильный мороз сказалась: все эти мысли проходили передо мной, как в полусне, да я, вероятно, и в самом деле задремал на ходу, и от этих полудремотных воспоминаний и мечтаний я очнулся совсем неожиданно, услышав звуки отдаленного разговора.
Быстро открыв глаза, я увидал в ста метрах от себя небольшой поселок.
На ближайшем доме развевался белый флаг. На крыльце этого дома стояли четыре вооруженных человека.
Я оглянулся: метрах в двухстах позади меня кончался неровный лес, и никого из моего отделения я не увидал. Я ушел далеко вперед.
Люди у крыльца стояли довольно спокойно. Они заметили меня.
Повернуться и итти назад было бессмысленно, три-четыре пули влипли бы тогда в мою спину. Оставалось итти вперед. Я так и сделал. Я шел размеренно, медленно, спокойно, думая о том, как бы дороже запросить с них за мою жизнь.
Я старался замедлить каждый свой шаг, выгадать каждую секунду, и потому, что я шел спокойно, не торопясь, держа курс на крыльцо избы с белой проклятой тряпкой, освещенной уже первыми косыми лучами встающего зимнего солнца, никто из стоящих у крыльца не шевельнулся, никто не взял винтовки наизготовку.
Чем ближе подходил я к деревне, тем виднее становилось мне, что у крыльца стояли лахтари из Финляндии; один из них откусил кусок хлеба, испеченного так, как не пекут нигде, ни в одном крае мира, кроме Финляндии, — особого рода пресные лепешки пекки-лейпа.
Я очень люблю пекки-лейпа, они напоминают мне годы моего раннего детства, и я уже тогда отлично знал, что во всей Карелии, за исключением разве Ухты, не умеют печь пекки-лейпа.
Я был уже в нескольких шагах от крыльца. Двое из наблюдавших за моим приближением вошли в избу, двое остались у крыльца. Я подошел вплотную к крыльцу.