У Марии Петровны екнуло сердце, невозмутимая Эссен побледнела, и лишь Катя, довольная, перебирала в воздухе ножонками. И в другой раз спасли девочки.
Сенат приговорил Эссен к каторге, затем каторгу заменили долгосрочной ссылкой. В ссылку Эссен идти не хотела. «Работы невпроворот, а здесь ссылка!» — писала она Марии Петровне из тюрьмы. Надо было организовывать побег. Тюремный режим пересыльной тюрьмы строг: свидания давались в исключительных случаях и непременно в присутствии надзирателей. Все попытки передать нужные для побега вещи заканчивались неудачей. Тогда в комнате свиданий под видом родственницы появилась Мария Петровна с девочками. Свиданная оказалась небольшой, полутемной. Надзирательница, пожилая женщина с тяжелым взглядом, угрюмо молчала. И в этой свиданной — ее девочки в пестрых батистовых платьях, похожие на бабочек. Леля держала в руках букет, а Катя — куклу. На резную дубовую скамью уселись рядышком: Эссен, семилетняя Леля, Мария Петровна, Катя. Болтушка Катя завела разговор с надзирательницей. Мария Петровна видела, как разглаживалось лицо угрюмой женщины, как ожила улыбка. Ба, надзирательница уже завязывала бант на завитых кукольных волосах. И тогда наступило главное — Леля протянула Эссен букет. В букете — кинжал, о нем так просила Эссен. Словно в полусне, Мария Петровна увидела, как Эссен взяла букет, прижала к груди девочку, поцеловала. В ее больших серых глазах — напряжение, она понимала, кем рисковала подруга. И вновь обостренно прислушивается Мария Петровна к разговору Кати с надзирательницей. Быстрый детский лепет и неторопливые вразумительные слова надзирательницы. Осталось передать плед, начиненный, словно пирог, явками, деньгами, она его держала на коленях. Предусмотрено все, что потребуется Эссен, прежде чем удастся скрыться за границу. Мария Петровна протягивает плед надзирательнице, боясь возбудить подозрения и в душе надеясь на удачу. Катя капризно отпихивает плед, громко смеется, глядя, как надзирательница укачивает куклу. Правда, забавно. Топорщилось платье из грубого сукна, задрались ботинки кургузыми носами, женщина раскачивалась всем телом, крупной ладонью прихлопывая по воздушным оборкам. Плед проверять не стала, кивнула головой — чего, мол! Глаза подруг встретились, на плечо Марии Петровны легла теплая ладонь — Эссен благодарно улыбнулась. И опять не по-детски серьезное лицо Лели, и опять оживленный смех Кати… Ее девочки!
…Шагает по бульвару Мария Петровна, ворошит сырой осенний лист, будто переворачивает страницы своей многотрудной жизни. Был и еще один сын. Он умер, когда она строила баррикады у путиловцев в девятьсот пятом. С каким укором смотрел на нее Василий Семенович: не уберегла, не уберегла… Она и сама плакала…
Юрика она увидела сразу, как только он подошел к памятнику Гоголю. Немного поодаль Леля… Ба, Катя! Они не здороваются с матерью, делают вид, что не замечают ее. Милые мои девочки!
Юрик проводит рукой по тяжелым цепям, обхватившим памятник. Серый башлык сползает ему на глаза.
— Юрик! — почти беззвучно шепчет Мария Петровна, пытаясь подавить волнение. — Юрик!
Мальчик поворачивается и кидается в ее объятия. Она проводит рукой по мокрому от слез лицу, сжимает худенькие плечи, чувствует, как они содрогаются от рыданий. Горький ком подкатывается к горлу. Она не плачет, нет, лишь хмурится и покрепче прижимает сына.
— Полно… Успокойся, мой мальчик! — Мария Петровна увлекает его на скамью. — Сырость разводишь, а на бульваре и так мокро! Смотри, как воробышки радуются солнышку. День-то какой!
Мария Петровна старается отвлечь мальчика, но Юрик качает головой и судорожно целует ее руки. В синих глазах — слезы крупными горошинами. Слезы огорчают ее — единственному сыну вновь причиняет боль!
— Ты приехала, мамочка?! Приехала?! Больше не расстанемся?! — Синие глаза с надеждой смотрят на мать.
— Приехала… Только придется вновь уехать! — Детям она никогда не говорила неправду и, тяжело вздохнув, повторила: — Придется…
— Но почему?! Почему?!
— Нужно, сынок! — Она гладит его по плечу, тормошит челку волос. — Расскажи лучше, как живешь. Ты воблу получил? Мой подарок… А в столовой какой суп берешь, «без ничего» или «ни с чем»?
Юрик смеется. Спор взрослых в совнаркомовской столовой о супе, сваренном из воблы и тощих горошин, всегда веселил его. Мария Петровна это знала и обрадовалась его радости.
— Один день беру «суп без ничего», а другой «суп ни с чем».
Теперь смеется и Мария Петровна, удивляясь, как забавно звучат слова Бонч-Бруевича в устах мальчика.
— Ты береги себя, Юрик. Я в трудной дороге, но известия о тебе получаю, и мне будет больно, если с тобой что-нибудь случится. Так-то, сынок… Слушайся Лелю и Катю… Может быть, тебе с ними придется скоро уехать…
— А ты? — перебил ее Юрик. — Ты как же?!
— Зачем задавать вопросы, на которые нельзя ответить?! — возразила Мария Петровна и, заметив, как насупился мальчик, попыталась его успокоить: — Через недельку увидимся… Непременно, Юрик… Теперь иди, пора!
Юрик прижался к ней сильнее, обхватив шею матери, закачал головой. Из глаз закапали слезы. Мария Петровна укоризненно взглянула, решительно отстранила и глухо повторила:
— Пора!
Последний караул
Когда я стояла в течение нескольких часов в последний раз на Красной площади вблизи гроба Владимира Ильича и передо мной мелькали вереницы процессий, с поразительной ясностью и отчетливостью встал в моем воображении во весь свой гигантский рост образ этого великого и вместе с тем такого простого, хорошего человека. Более чем когда-либо для меня стало ясно, что двадцатилетний юноша Ульянов (каким я его знала) и великий вождь всемирного рабочего движения Ленин — все тот же, как бы вылитый из стали, Ильич…
Язык мой слишком беден, чтобы хоть в общих чертах отразить то, что рисуется в моих мыслях, и потом я просто попробую, в связи со своими воспоминаниями, подчеркнуть отдельные штрихи, характерные для Владимира Ильича.
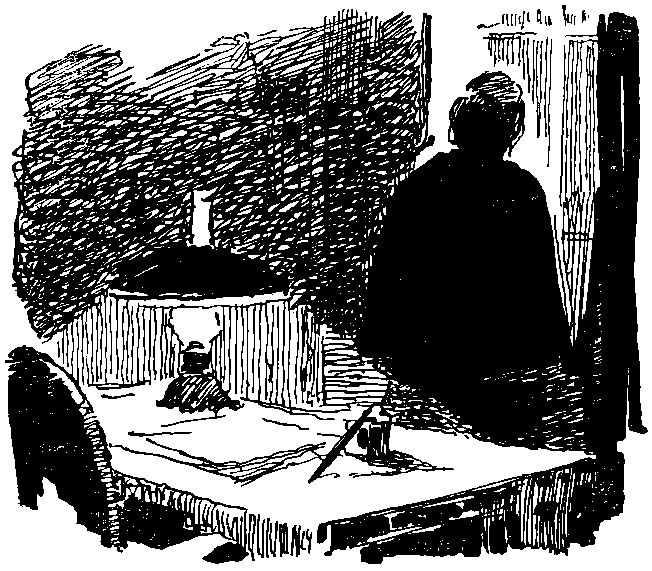
Мария Петровна отложила перо, зябко передернула плечами, поправила пуховый платок. В комнате холодно, чуть слышно потрескивали дрова в голландской печи. Сквозь залепленные инеем окна пробивался рассвет. Сколько горестных морщин прибавилось за эти январские дни 1924 года! Не стало Ленина! К этому почти невозможно привыкнуть. Она посмотрела на белевший лист и вновь начала писать:
Познакомилась я с ним в 1891 г. Ему тогда только что исполнился 21 год. Был он исключен из Казанского университета, выслан из Казани и жил со своими родными в Самаре. Обычный костюм его в то время — ситцевая синяя косоворотка, подпоясанная шнурком, а обычное занятие — глубокое, серьезное, настойчивое изучение теории Маркса. В течение года я видела Владимира Ильича довольно часто, так как часто бывала в семье Ульяновых. Это был период, когда Владимир Ильич готовился к будущей роли вождя всемирной революции. Конечно, он не думал тогда, какую роль он будет играть в истории, нет, — пытливый ум юноши Ульянова искал ответов на те жгучие вопросы, которые ставила ему жизнь, упорно искал — и скоро нашел.
Такой настойчивости, такого упорства в труде, какие были у Владимира Ильича уже в то время, я никогда ни у кого не видала. Я до самого последнего времени думала, что это были черты, присущие его характеру. И только недавно от сестры его, Анны Ильиничны, узнала, что на гимназической скамье Владимир Ильич не был особенно усердным мальчиком; это понятно: при его блестящих способностях ему все легко давалось; но уже в последних классах гимназии, по словам той же его сестры Анны Ильиничны, он задумывался над вопросом выработки в себе этого хорошего качества — упорства в работе; задумался, решил и выполнил блестяще. Целыми днями и вечерами сидел Владимир Ильич в своей комнатке, изучая Маркса; лишь изредка давал он себе отдых или играя в шахматы, или беседуя со своей маленькой сестрой, Марьей Ильиничной — Маняшей, как он звал ее тогда.