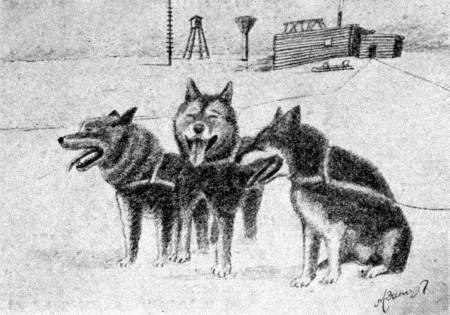
Высовываю голову из кухлянки. Мороз обжигает щеки. Но радостно видеть манящие вдали огоньки. И невольно вспоминается Короленко… Сколько огней! Мы давно не видели такого селения. Это Крепость! Нижне-Колымск! Он кажется большим и даже огромным. А ведь в нем всего только тридцать девять домов… Стало теплее при одной мысли, что впереди городок и несколько минут всего отделяют нас от встречи с людьми, от жилья и горячего чаю, который вернет нам утраченное в пути тепло. Цепь огоньков далеко протянулась по снежному левому берегу Колымы. Сутулые колымские плоскокрышие дома светятся сквозь льдины, вставленные в прорези окон вместо стекла. Мы вскакиваем с нарт, бежим за ними, радостно ловим мерцающий робкий свет.
На берегу шелестит тальник. Жалобно воют местные многочисленные собаки. На улицах городка темно и безлюдно.
Вдруг кто-то окликает меня. Я удивлен этой встречей, Оказывается это комсомольцы-метеорологи, с которыми я познакомился в прошлом году во время поездки по Колыме. Узнаю у них, что сегодня температура воздуха: –46°.
В тесных каморках Нижне-Колымской гидрометеостанции, кроме метеоролога — комсомольца Штейна, живет семья начальника станции Якушкова и женщина — геофизик. В железных печурках трещат поленья. И все-таки от ледяных окон веет холодком. Холод заметно струится от стен и дверей. На бревенчатых покрытых инеем стенах висят диаграммы, кривые температур за последний квартал года и «розы ветров» с причудливыми «лепестками». По всему полярному берегу, на мысах, где зимуют метеорологи, в занесенных снегами землянках и избушках висят «розы ветров», вычерченные посланцами советской науки. Ледяная тропа, проложенная советскими судами в северных морях, усеяна этими «розами».
Над столом портрет товарища Сталина.
Атык смотрит на него и говорит:
— Это самый большой человек на земле! Сталин — Солнце!
В комнате начальника станции портрет Ленина.
Атык говорит:
— Это Ленин! Ленин — Солнце!
Атык знает, что Ленин вместе с товарищем Сталиным прогнали богачей и их приспешников. Атык и каюры-чукчи знают: Ленина больше нет. На Большой Земле остался Сталин: его товарищ, великий человек! Это он послал корабли к берегам Чукотки. Он хочет, чтобы лучше жилось в тундре и на морском берегу.
Ночь. На метеостанции скупо, с приспущенным фитилем, светит керосиновая лампа. Она могла бы гореть и поярче, но в Нижне-Колымск еще не доставлен керосин из Амбарчика, и пока следует экономить остатки запасов.
Комсомолец-метеоролог Штейн согнулся над столом и что-то чертит. Оказывается, это — опять же «роза ветров». Она получается не совсем красивой. Штейн винит в этом Восточно-Сибирское море и его постояльцев — ветры норд-остовой четверти. Это они-то и дают «розу» с вытянутыми лепестками.
Утром я слышу, как Якушков чиркает спичкой и тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить гостей, подходит к анероиду. Я спрашиваю шопотом:
— Сколько времени?
— Без пяти семь.
На завтра Штейн осторожно чиркает спичкой и тоже идет к анероиду. Я спрашиваю и его, сколько времени, и он отвечает то же самое: — Без пяти семь.
Несколько дней я наблюдаю их честную точную и преданную работу.
На следующий вечер в Ленуголке кинофильм: «Булат-Батырь». Картина из времен Пугачева. После кино бреду от клуба к метеостанции краем всего Нижне-Колымска. В темноте никак не нащупать потерянную тропу, выбитую здесь пешеходами и нартами. Часто проваливаюсь в снег по колени. Наконец, я на тропке. И тогда, в черноте тальника, которым, как забором, затянут берег широкой Колымы, я ясно вижу мерцающий огонек. Он движется. Кто-то идет с фонарем. Это — Якушков. Он ходил на Колыму замерять уровень воды и ее температуру. Если пришел «срок», нипочем для него мороз, пурга, хлесткий ветер. Укутается шарфом так, что открытыми остаются только глаза, и идет выполнять свой долг.
Домики, отстоящие друг от друга, кажутся высеченными изо льда. Над каждым домиком столбом стоит белый дымок, выходящий из трубы. Над всеми тридцатью девятью домиками Нижне-Колымска стоят эти столбы, как опознавательные знаки большого мороза. Они напоминают мачты кораблей, до которых немыслимо далеко.
Слышен скрип полозьев и хруст снега. Слышится сюсюкающая, колымская речь потомков тех, кто пришел сюда, быть может, еще с кочами Стадухина…
Первым, кто сообщил о пути из Якутска в Колыму, был казак Михаил Стадухин. В 1641 году он отправился на «Емоконь» (Оймекон) для ясачного сбора. Построив на Индигирке кочь, Стадухин сплыл на нем с казаками до моря и пошел далее на восток. В низовье Колымы на левой, так называемой Стадухинской протоке, невдалеке от теперешнего Нижне-Колымска, он поставил ясачное зимовье-крепостцу, обнесенную частоколом. Протока эта обмелела, и позднее селение передвинулось на новое место, что верстах в двадцати от старого, как раз против устьев Анюев, впадающих в Колыму близко друг от друга. Однако название «крепости» так и осталось бытовать на Колыме.
Был на Колыме лейтенант Дмитрий Лаптев. Он соорудил на Толстом мысу близ устья Колымы грузную деревянную пирамиду, служившую опознавательным знаком. Она и поныне известна под названием «Маяк Лаптева».
Были на Колыме знаменитые русские моряки Ф. Врангель, Ф. Матюшкин, И. Биллингс, Г. Сарычев, Г. Седов.
В 1909 году Седов описал устье и бар Колымы и соорудил здесь приметные знаки.
Колымскими таежными тропами ходили революционеры, сосланные сюда царской властью на погибель. Их помнят старожилы. Многие не выдержали суровой жизни на положении ненужных людей. В колымской избе вместо тюремной решетки на окнах были вставлены льдины, а взамен высокого забора с колючей проволокой беспредельно лежала тайга, из которой не выбраться и самому смелому беглецу.
Но не было сил, способных при старом строе проложить путь культуре на колымские берега. Каюры мужчины рассказывают, что их родители боялись отдавать детей в школу. Старая Колыма не знала просвещения.
Епервые в 1931 году на Колыме появился, смело приведенный с Лены, пароход «Ленин». Край начал пробуждаться. И о многом говорит то, что колымские каюры стали оставлять в дорожных листах свои подписи-автографы. Только старики еще ставят взамен подписи печати или крестики…
Атык на прощанье занимает меня рассказами.
Он купил росомаший мех и счастлив. Подарок любимой жене Атык показывает каждому встречному. И еще он купил новую нарту и капканы… Сушеную рыбу каюрам отпустили счетом до Сухарной заимки. Там много собак и много собачьего корма.
Утром каюры собираются у метеостанции, чтобы попрощаться с нами. Я передаю Атыку письмо к Козловскому.
— Прощай, Атык! Спасибо тебе за каюрство! За дружбу! Счастливого пути, человек Севера! Спасибо, дорогой товарищ по трудной дороге!
И Атык в ответ крепко жмет мне руку и тоже говорит спасибо. Еще в пути я заметил, что некоторым русским словам Атык придает особый смысл. «Спасибо» Атык понял как конец дела, конец путешествия, но никак не иначе. Он знает, что у русских принято благодарить не в начале, а только в конце работы. Напившись чаю где-нибудь у костра, я возвращал Атыку его кружку и говорил «спасибо». Это значило, что закончено чаепитие. Спасибо, — это для Атыка слово, завершающее действие.
— Спасибо! — сказал мне Атык на прощанье.
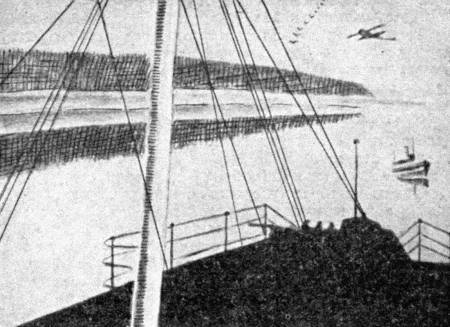
Один из метеорологов пригласил всех к столу. Отказываться невозможно: подана сельдятка. Мы было спутали ее с селёдкой, но колымчане, улыбаясь, объяснили, что сельдей нет на Колыме. Сельдятка — небольшая рыбка из породы сигов, ее очень много на Колыме, и она замечательно вкусна. Я впервые встречаю такую нежную рыбу. Сельдятка — слово колымское, на других реках его не слыхать.
Нашлось у метеорологов для прощанья с каюрами и по стопке водки. Я спросил Атыка: