Чукчи жили вокруг ярмарки своими станами, каждым станом управлял свой родоначальник.
Чукчи привозили с собой на ярмарку черных и черно-бурых лисиц, песцов, куниц, выдр, бобров, медвежьи шкуры, моржовые ремни и клыки, санные полозья из китовых ребер, мешки из тюленьей кожи.
Интересовались чукчи следующими русскими товарами: табаком, железными вещами — котлами, топорами, ножами, огнивом, иглами, медной, жестяной и деревянной посудой, а также бисером.
На ярмарку в Островное приезжали за тысячу и полторы тысячи верст не только чукчи, но и представители других соседних племен: юкагиры, ламуты, тунгусы, чуванцы, коряки. Лай собак, на которых прибывали в Островное с купцами и жителями Чукотки вереницы нарт, слышался издалека.
После сбора с чукчей соответствующей подати и торжественного богослужения и молебствия на башне крепости взвивался флаг, означавший официальное открытие ярмарки. Тут же после первого удара в колокол начиналась бойкая торговля. «Какая-то сверхъестественная сила схватывает русскую сторону, — писал в своем донесении Матюшкин, — и бросает старых и молодых, мужчин и женщин шумной беспорядочной толпой в ряды чукчей… Обвешанные топорами, ножами, трубками, бисером и другими товарами, таща в одной руке тяжелую кладь с табаком, а в другой железные котлы; купцы перебегает от одних саней к другим, торгуются, клянутся, превозносят свои товары… Крик, шум и толкотня выше всякого описания».
Ценность обращавшихся на ярмарке товаров Матюшкин исчислял на сумму 200 000 рублей.
После окончания ярмарки начинался разъезд по домам, в долгий иногда полугодичный путь на собаках или оленях.
«Островное опустело, — писал Матюшкин. — Свежий снег изгладил следы многочисленных посетителей. Тотчас явились стад голодных лисиц и песцов и в короткое время уничтожили все кости и остатки, валявшиеся грудами около жилищ и станов».
…В Островном мы с каюром пьем байховый чай, из обиходных черных чаев, любимых на Чукотке. Он кажется исключительно вкусным после кирпичного. Хозяйка угощает нас пышками.
Как давно мы их не видали!
Мальчишка лет пяти застенчиво выглядывает из-под занавеси, но, увидав бородатого приезжего, прячется вновь.
Я нахожу его, беру на руки, сажаю на колени, угощаю обнаруженной неожиданно в кармашке камлейки конфеткой и вспоминаю своего сынишку, которого долго еще не увижу.
Островновские избы такие же, как и колымские, — без сеней, без двускатных крыш. Зимой холодный воздух вслед за каждым входящим клубами влетает в дом. Пока железная печка горит, возле нее тепло. Прогорели дрова, и ночью в избе чуть теплее, чем на улице.
Но как уютно в избе, пока трещат поленья. Давно не слышали мы этой приятной домашней музыки.
Сторож островновской школы-интерната чукча Иулькут за год научился верно переписывать в тетрадь русские буквы и гордится этим. Его очень занимает процесс писания.
Меня Илькут расспрашивает о Москве, о Кремле, о товарище Сталине.
— Сталин — великий человек, — говорит он. — Сталин вместе с Лениным сделал Советскую власть. Он научил русских делать хорошо. Он вспомнил о ламутах и чукчах. Сталин прислал сюда лучших людей, чтобы научили нас строить советскую жизнь. Каждый, кто хорошо делает в тундре, того Сталин прислал к нам…
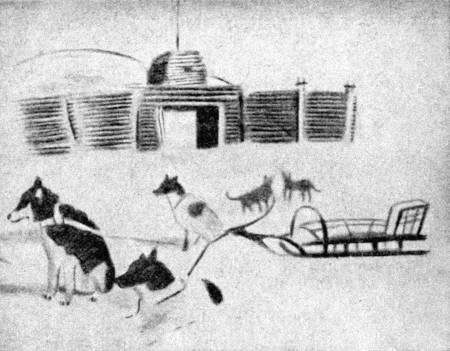
В островновской школе-интернате учатся и живут дети кочевников-чукчей. Родители учеников откочевали вместе со стадами, а дети в заботливых руках учителей. Не все чаучу соглашаются расставаться на длительный срок с детьми. Поэтому вслед за стадами движется на нартах еще и передвижная школа.
Попову рассказываю об огне в тундре, он и сам близ Малого Анюя видел огонь — чудинку наподобие того, как мы с Атыком. Что это такое — не знает. Вспыхнуло, погасло и больше ни разу не повторилось…
В Островном несколько дней не всходит солнце. Поселок зажат между горами, и они скрывают зимой солнце. Пожалуй, полярная ночь здесь тянется дольше, чем в Певекском многолюдье.
На прощанье мне советуют:
— Оденьте кухлянку сверх кукашки! Иначе замерзнете! Километров сорок-пятьдесят ехать рекой! А на Анюе всегда ветерок! Прохватывает сильно!
«Прохватывало» так, как еще ни разу от самого Певека.
Очередная ночевка была в лесу. Мы накидали ломкие ветви на примятый снег, бросили на них оленьи постели и кукули и залегли спать под звездным морозным небом. Было немыслимо тихо кругом. Мне вспомнились слова помора Григория Кузнецова, новоземельского промышленника:
— Такая тишина бывает у нас на Севере, что и ушам больно!
Утром лес предстал во всем своем праздничном великолепном наряде, торжественно опустив ветви, отягощенные снежными куржаками.
Собак кормим мороженой кровью, оленьего мяса нехватило.
Вторую ночь провели у чукчи Урыгыргина. Это — последнее чукотское стойбище на нашем пути к западу.
И через двадцать дней после выезда из Певека мы в последний раз, и не без грусти, садимся за камитву в последней на нашем пути гостеприимной чукотской яранге. И хотя еще недавно мы совсем не знали друг друга, теперь каждый из нас ощущал одно и то же: расстаемся с большими друзьями, с настоящими людьми, любящими свою землю, свой край, свою Родину.
У хозяина яранги берем корм для собак до самой Пантелеихи. Оттуда до «крепости» — до Нижне-Колымска один лишь перегон. В Пантелеихе много рыбы — прекрасного корма для собак и людей.
Едем до ближайшей поварни. Даль утверждает, что поварня — это кухня, стряпная, приспешная, где готовят кушание. На Севере поварней называют любую избу, которую ставили на тропе, чтобы проезжие люди, захваченные в пути непогодой, могли остановиться здесь, поспать, подкрепиться пищей. Одни говорят, что до поварни тридцать верст, другие — сорок пять. Не знаем, что это за версты: длинные или короткие?
Хозяйка любезно угощает нас. Сама она не пьет чаю, но внимательно следит за гостями. Едва у кого опорожнится блюдце, хозяйка торопливо наполняет его из дымящегося чайника.
Спим в последний раз в чукотском пологе.
Я опрометчиво позабыл рукавицы за пологом, и они задубели за ночь от мороза.
Долго разминаю их, прежде чем надеть на руки.
В поварню мы не попали. Впереди ехал Там-Там с тремя чукчами на оленных нартах. Где-то вблизи семья Там-Там кочует с небольшим стадом.
Мы прощаемся с Там-Тамом под вой собак. Они каждую минуту готовы сорвать нарты с приколов и броситься на оленей. Каюры едва удерживают их от драки.
Ламут-проводник, уезжая с Там-Тамом, кричит нам по-чукотски. Атык переводит мне:
— Дорога есть! Колыма прямо и… спать!
Мы уже совсем недалеко от Колымы.
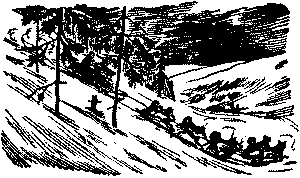
На Колымской землице
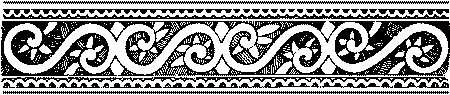
Позади остались красивые островерхие горы, будто высеченные юз белого мрамора и упирающиеся в самое небо.
Чем ближе Колыма, тем приветливее улыбка Атыка. Скоро конец долгому совместному путешествию на-проходную. Около тысячи километров проделали нарты, петляя по тундре в поисках корма для собак, в поисках чаучу. По Тан-Богоразу точный перевод слова «чаучу» — «богатый оленями». Чаучу это оленный чукча-кочевник в отличие от анкалина, берегового, безоленного чукчи-охотника на морского зверя.
Свое каюрство Атык не считает трудом. Такой труд для него удовольствие. Он любит трудиться и трудится весело. Я редко вижу его мрачным. Он сидит, держась одной рукой за дугу, и без конца поет. Поет о том, что вот скоро приедет в Крепость, достанет там много корма для собак, купит росомаху для жены, которая ждет и не дождется Атыка. Увидит она подарок и удивится, ласково: — Каккумэ!
Каюры радуются, что скоро Крепость, но, осматривая на каждой остановке лапы собак, сокрушенно качают головами. Уж очень иссушились псы. Доберемся ли на таких до места?