Но я так устала, что не в силах продолжать,— совсем засыпаю. Мне еще остается рассказать о лучшем в мире сердце, но в то же время и самом своеобразном, как я вам уже говорила; но за эту работу я не в состоянии сейчас приняться; я откладываю ее до другого раза, то есть до пятой части, где она придется очень кстати, и эту пятую часть вы получите очень скоро. В третьей части я вам обещала рассказать что-нибудь о моем монастыре: здесь я не могла это сделать — это тоже пока откладывается. Зато я заранее скажу, что речь пойдет об одной монахине и что ее история составит почти весь сюжет моей пятой части.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
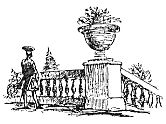
Вот, сударыня, пятая часть истории моей жизни. Недавно вы получили четвертую часть, и мне кажется, я могла бы похвалиться такой быстротой; но кто же его знает, не рано ли мне гордиться, лучше уж самым скромным образом сразу приступить к делу. Вы считаете меня лентяйкой, и вы правы; думайте так и впредь,— так будет надежнее и для вас и для меня. Скорости от меня не ждите; быть может, я иной раз и окажусь проворной, но это будет лишь случайно и без всяких последствий: если вам угодно будет похвалить меня за быстроту, ваши похвалы не побудят меня заслужить их и в дальнейшем.
Итак, вам известно, что мы, то есть госпожа де Миран, Вальвиль и я, обедали у госпожи Дорсен, портрет которой я вам нарисовала, оставив его наполовину незаконченным, оттого что мне смертельно хотелось спать. Докончим его.
Я уже говорила вам, как умна была госпожа Дорсен, а теперь надо сказать о высоких качествах ее сердца. У госпожи де Миран, как вы знаете, сердце было чрезвычайно доброе; я вам обещала, что и госпожа Дорсен ей в этом не уступит.
Вместе с тем я вас предупредила, что характером доброты они отличались друг от друга; и, опасаясь, как бы это различие не повредило правильному вашему представлению о госпоже Дорсен, я позволю себе начать с маленького рассуждения.
Вы, полагаю, помните, что госпожу де Миран я изобразила как женщину самого обыкновенного ума, такой ум не восхваляют и не презирают, его свойства — благоразумная посредственность, здравый смысл и просвещенность; а теперь я буду говорить о женщине, отличавшейся величайшей тонкостью ума. Не теряйте этого из виду. Перейдем к моему рассуждению.
Представим себе самого великодушного, самого доброго на свете человека и вместе с тем умнейшего, весьма развитого. Я утверждаю, что этот добрый человек никогда не покажется столь же добрым (приходится повторять слова), как тот, который при той же степени доброты ум имеет посредственный.
Итак, я говорю, что очень умный человек покажется менее добрым, и хорошо еще, если за ним вообще признают доброту и не припишут лукавству то, что исходит от сердца, не скажут, что у него доброта — уловка хитрого ума. А хотите знать, откуда такая несправедливость, почему умного считают менее добрым? Вот что отчасти является тут причиной, если только я не ошибаюсь.
Большинству людей, когда им оказывают услугу, хотелось бы, чтобы со стороны почти и не чувствовалось, как для них важна эта услуга и как должны они быть за нее признательны; они хотели бы встретить нерассуждающую доброту: это больше подходило бы для их неблагодарной щепетильности, и этого они не находят в умном человеке. Чем больше ума у благодетеля, тем больше это их унижает: умный слишком ясно разбирается в том, что он сделал для них. Его ум слишком зоркий и, быть может, надменный судья; к тому же из-за него им стыдно проявить неблагодарность; это так им досадно, что они заранее ее проявляют, именно потому, что тот, кто оказывает им услугу, слишком хорошо знает ее ценность. Имей они дело с кем-нибудь, кто меньше бы это понимал они были бы более признательны.
«С такой умной особой надо,— говорят они,— остерегаться обвинения в неблагодарности». А с той, у которой ума поменьше, их признательность сделает им честь, почти такую же, как если б они сами были великодушны.
Вот почему им так нравится нерассуждающая доброта, тогда как о доброте умных людей они судят злобно.
В первом случае человек в общих чертах знает, что оказывает другому услугу, но не вникает во все ее тонкости; половина ее ценности ускользает от него по недомыслию; стало быть, от облагодетельствованного меньше будут ждать признательности, ему меньше придется смущаться. Полученная услуга обойдется ему дешевле, и за это он так благодарен, что она ему во сто раз милее, чем услуга умного человека, хотя единственное ее преимущество в том, что она исходит от недалекой особы.
И вот, госпожа де Миран принадлежала к числу тех добрых женщин, которым облагодетельствованные ими люди очень благодарны за то, что ум у них посредственный; а госпожа Дорсен относилась к числу тех добрых умников, чью невольную дальновидность подопечные считают оскорбительной для себя,— притом совершенно искренне, не сознавая своей несправедливости, так плохо они разбираются в людях.
Ну вот, я и закончила свое рассуждение. Мне очень хотелось бы добавить несколько слов, чтобы дополнить его. Вы разрешаете? Пожалуйста, прошу вас. Слава богу, мой недостаток по этой части для вас не новость. Вы хорошо знаете, как я несносна со всеми моими рассуждениями. Стерпите еще и это рассуждение, оно будет лишь маленьким продолжением предыдущего; а после этого, заверяю вас, я больше рассуждать не стану, и если случайно у меня вырвется какое-нибудь замечание, в нем будет не больше трех строк,— я обязываюсь считать их. Но вот что я хотела сказать вам.
Откуда у людей эта ложная щепетильность, о которой мы сейчас говорили? Не является ли источником ее подлинная возвышенность нашей души? Быть может, душа, если можно так сказать, стоит столь высоко, что для нее унизительно быть чем-нибудь обязанной другой душе? Быть может, именовать благодетелем пристало одного лишь бога? А во всех остальных случаях это слово неуместно?
Очевидно, так оно и есть. Но что поделаешь! Мы все нуждаемся друг в друге; с такой зависимостью мы рождаемся и ничего не можем тут изменить.
Будем же сообразовываться с положением, и если правда, что мы так возвышенны, извлечем из этого свойства решение, самое достойное вас.
Вы полагаете, что тот, кто оказывает нам услугу, возвышается над нами. Хорошо. Если вы хотите, чтобы он сохранил свое превосходство, а вы оказались бы ничтожеством перед ним,— вам для этого нужно только проявить себя неблагодарным. Хотите вы стать равным ему? Будьте признательны — только на этом вы можете отыграться. А если он вздумает гордиться услугой, которую оказал вам,— унизьте его в свою очередь, станьте самым скромным образом выше его — именно благодаря своей признательности. Я говорю, «самым скромным образом», а если вы будете выражать свою признательность велеречиво, высокомерно, если тут замешается гордыня и желание отомстить, ваш замысел не удастся; вы нисколько не отомстите, и оба вы, с вашим благодетелем вкупе, покажете себя мелкими людьми, и еще неизвестно, кто из вас двоих окажется мельче.
Ах, вот я и кончила! Простите за многоречивость; теперь уж прекращу свои рассуждения надолго,— может быть, навсегда. Вернемся к госпоже Дорсен и ее уму.
Не знаю, был ли когда-нибудь ее ум причиной того, что ее сердце ценили меньше, чем следовало; но так как вас поразил нарисованный мною портрет добрейшей особы, обладающей, однако, посредственным умом, мне было бы приятно, чтобы вы без предубеждения взглянули на портрет другой добрейшей особы, обладающей высоким умом; это свойство вначале слегка восстанавливает против нее, да еще заставляет ее по-иному делать добро и накладывает свой отпечаток на весь ее характер.
Госпожа де Миран, например, при всем своем добросердечии, делала для вас только то, о чем вы просили, или оказывала вам в точности ту услугу, за какой вы дерзнули к ней обратиться; я говорю «дерзнули», потому что у человека редко хватает смелости сказать полностью, в чем он нуждается, не правда ли? Обычно тут из деликатности кое- что недоговаривают.