Демифологизация

Осмысление Уго Чавеса и его «боливарской революции» следует начинать с разрушения мифологии, навеянной нетривиальной внешностью венесуэльского пассионария. В конце концов, «рядовой бандит» Нэнси Пелози — всего лишь перифраза стереотипа «Дикого Варвара», столь популярного в истеблишменте западных демократий.
Уго Чавес родился в семье учительницы и регионального инспектора по образованию, с детства увлекался живописью, пением, поэзией и спортом, публиковал рассказы и пьесы. После окончания средней школы поступил в Военную академию. Продолжил образование в столичном Университете Симона Боливара (политические науки). Последующие 17 лет жизни отдал армейской службе. Одним словом, типичная биография варвара.
Почвой для зарождения следующего мифа — о «Новом Пиночете» — послужили события 1992 года, когда политическая группа Чавеса «Боливарское революционное движение–200» (MBR—200) предприняла попытку отстранить от власти Карлоса Андреса Переса. Второй президентский срок (1989–1993) Перес начал с полномасштабного внедрения программы неолиберальных реформ (paquete — «пакет»), продиктованных МВФ и знакомых читателю до головокружения: приватизация госкомпаний, снижение таможенных пошлин, децентрализация политической системы, отпуск цен и отказ государства от участия в регуляционных процессах экономики. Жители Венесуэлы — в отличие от россиян! — перспективу интеграции в «свободный мировой рынок» восприняли резко отрицательно, высыпали на улицы и организовали повсеместно акции гражданского неповиновения. День 27 февраля 1989 года вошел в историю Венесуэлы под именем Caracazo — невиданного ранее кровопролития, унесшего три тысячи мирных жизней. Показательно, что Перес, распорядившийся о проведении карательных мероприятий, представлял «Демократическое действие» (Accion Democratica), почтеннейшую социал-демократическую партию Венесуэлы.
Глубина национального потрясения от Caracazo определяется полным отсутствием в Венесуэле традиции брутальных расправ, характерных для прочих латиноамериканских стран. Не случайно Венесуэла стала первой страной в мире, законодательно упразднившей смертную казнь (в 1863 году). В подобных обстоятельствах представление о всемирной универсальности мотива «Раздави гадину!», определяющего поведение демократических сил в критических ситуациях, служит слабым утешением.
Подполковник Чавес и его соратники по MBR–200 воспринимали президента страны Переса не иначе как национального предателя, а потому не испытывали ни малейших угрызений совести, выводя на рассвете 4 февраля 1992 года из казарм пять армейских подразделений в пригороде Каракаса. В планы инсургентов входил захват военных и коммуникационных объектов столицы, президентского дворца Мирафлорес, здания Минобороны, военного аэропорта Ла Карлота и... Исторического музея. По иронии судьбы, Чавесу с единомышленниками удалось закрепиться лишь в Историческом музее, само появление которого в списке объектов, подлежащих первоочередному захвату, свидетельствует если не о кукольно-бутафорской, то, по крайней мере, о наивно-романтической природе всего мероприятия. Спору нет — революционным традициям Венесуэлы далеко до кубинских!
В провинции сторонники Чавеса добились несопоставимо более солидных результатов, захватив власть в трех крупных городах — Валенсии, Маракайбо и Маракаи. Чураясь кровопролития, «Новый Пиночет» Уго Чавес обратился по телевидению к товарищам и единомышленникам с призывом сложить оружие и прекратить сопротивление. Результаты «путча»: 14 убитых, 130 раненых и появление на политическом горизонте Венесуэлы «народного героя и защитника» Уго Чавеса.
Спустя год президента Карлоса Переса отстранили от власти через процедуру импичмента, а еще через год (1994) новый глава государства, Рафаэль Калдера, амнистировал и выпустил из тюрьмы Чавеса. «Боливарское революционное движение–200» было преобразовано в политическую партию «Движение за Пятую Республику» (Movimiento V (Quinta) Repъblica, MVR), которая привела Чавеса к победе на президентских выборах 1999 года.
Первородный грех
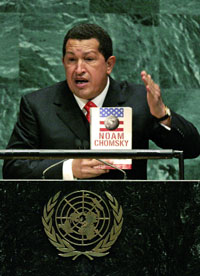
Пятая Республика была призвана заменить порочную систему «Punto Fijo»3 — венесуэльский вариант «партийной демократии», по мнению Чавеса, — главного врага истинного народовластия. В 1958 году, после свержения диктатора Хименеса, достигнутого, по большей части, усилиями коммунистической партии Венесуэлы, три партии демократического толка — Демократический республиканский союз, социалисты-христиане (Copei) и Демократическое действие (AD) — заключили пакт об эксклюзивном разделении власти, элегантно оставив за бортом и коммунистов, и правых радикалов. Республиканцы вскоре растворились в демократах, и на добрые сорок лет в Венесуэле утвердилась двухпартийная система. Уделом остальных политических движений стали подполье и партизанская война, обеспечивавшая занятость вооруженных сил на протяжении 60-х и 70-х годов.
По иронии судьбы, армия, находившаяся в авангарде «борьбы с терроризмом», очень быстро подхватила радикальные идеи и сама превратилась в их рассадник. Воинскую службу Чавес начал в 1975 году в специальном егерском батальоне для борьбы с повстанцами. Батальону противостояла леворадикальная бригада «Bandera Roja»4. В боевых действиях будущий президент не участвовал5, зато, по собственному признанию, проникся глубоким сочувствием к идеям бескорыстных борцов за народное счастье. Чавес, однако, переосмыслил идеи повстанцев в героико-мифологическом ключе, наполнив коммунистические абстракции национальной историей и увязав их с именем Симона Боливара.
От читателя наверняка не ускользнула навязчивость, с которой образ Боливара проталкивается во всех политических инициативах Чавеса: идеология президента называется «боливаризмом», программы национального возрождения — «боливарскими миссиями», комплекс экономических реформ — «Планом Боливар–2000», даже название страны, согласно новой конституции, принятой в 2000 году, было изменено на «Боливарскую Республику Венесуэла».
Симон Боливар — El Libertador6, изысканный аристократ баскских кровей, возглавил в начале XIX века борьбу латиноамериканских наций с испанской короной. Campaсa Admirable7, начатая в 1813 году и ознаменованная серией блестящих военных побед, принесла независимость Венесуэле, Колумбии, Панаме, Эквадору и Перу. В 1825 году в честь Боливара были названы северные территории Перу, ставшие впоследствии независимым государством Боливия.
Величайшим политическим достижением и главной амбицией всей жизни Боливара было объединение освобожденных территорий в одно государство, названное им Gran Colombia8. Кроме перечисленных территорий, в Великую Колумбию, просуществовавшую с 1819-го по 1831 год, вошли также части Коста-Рики, Бразилии и Гайаны.
Хотя распад Великой Колумбии был обусловлен объективными историческими причинами — в первую очередь кардинальным различием интересов региональных элит, — непосредственным могильщиком Утопии Симона Боливара стала его малая родина — Венесуэла, первой отделившаяся от Великой Колумбии в 1830 году! Пытаясь сохранить единство государства, Боливар объявил себя диктатором (1828), однако не сумел оказать должного противодействия центробежным силам, ушел в отставку (1930) и даже приготовился к добровольной европейской ссылке. 17 декабря 1830 года великий человек скончался от туберкулеза, оставив после себя латиноамериканскому этносу Великую Мечту (панамериканское государственное единение) и Великое Искушение (диктатуру).