34. Чудовищные лица
34. Чудовищные лица

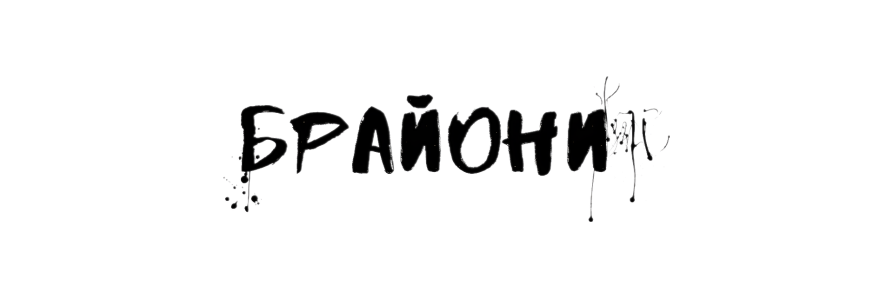
Его руки, обнимающие меня, говорят на совершенно другом языке, нежели слова его тела в лесу. Ладони прижимают меня к нему в новом, неожиданном объятии. Утешительном. Почти нежном и заботливом.
Эроу несет меня в ванную комнату одной из самых странных хижин, которые я когда-либо видела.
Я бы даже не назвала это хижиной. Слово «хижина» для меня подразумевает что-то старое, деревенское и теплое. А это изящная оболочка модерна. Благодаря линейной архитектуре экстерьер может похвастаться высоким уровнем мастерства, что отражается и на интерьере. Ничего, кроме черных стен, гранитных полов, мебели, которая практически лежит на полу пол из-за своей низкой высоты, и панорамных окон, выходящих на полностью скрытый лес позади нас под ними.
Это похоже на убежище миллиардера, а не бездомного преследователя, который трахает свои завоевания в лесу, вдавливая их лицом в землю.
То, что мы там сделали, было животным. Органически первобытным. Необузданная страсть его неослабевающей потребности всколыхнула мою внутреннюю женственность, превратив ее в ураган желания. Я нуждалась в том, чтобы он заявил свои права на меня в своем лесу, и жаждала того, чтобы он кончил на меня, как на какую-то помеченную собственности. Мне стало ясно, что подчинение во время секса возбуждает меня. Мне нравилось чувствовать себя принадлежащей кому-то и приниженной, чтобы открыться этому ощущению полного освобождения. Для женщины, которая ежедневно ведет войны за равенство, это было, как не странно, очищающее чувство.
Оргазм, который я испытала там, в этой грязи, противоречит всему, чего я должна была хотеть от секса и близости, и все же он ужасает меня, потому что теперь я не могу воспринимать этот акт иначе. Стать одной плотью — вот что Он задумал для нас. Секс — это форма поклонения, и то, что мы сделали, было ничем иным, как почитанием этой новообретенной религии, которую мы создали. Я не хочу ничего другого, кроме как этого вида первобытной страсти, этого покалывающего позвоночник требование его тела в самой глубине моего.
Усталость берет верх, и мои веки тяжелеют. Он усаживает меня на столешницу просторной и элегантной ванной комнаты, включает одну из самых больших душевых кабин, которые я когда-либо видела, и возвращается ко мне с маленьким белым полотенцем для рук.
Он собирается снова поднять меня, но я хватаю его за предплечье, останавливая. Над черным гранитным полом поднимается пар, и я поворачиваюсь спиной к Эроу, чтобы посмотреть на себя в зеркало.
Правая сторона моего лица, та, которой меня прижимали к земле, покрыта грязью. В моих волосах запуталась листва, и я замечаю его размазанную кровь возле моего рта. Моя рубашка разорвана, и грудь вываливается за край лифчика. Юбка вся в грязи, а колени черные от влажной почвы. Я выгляжу опустошенной и потрепанной в своем отражении. Что далеко от красоты, и все же, с румянцем на щеках, припухшими губами и животом, скрученным от нескончаемого вожделения, я никогда не чувствовала себя более неземной.
— Ибо мы — Его творение10... — цитирует он возле моего уха, глядя в мои глаза в отражении перед нами. — Твоя красота — моя удавка.
— Прелесть обманчива и красота мимолетна, но женщина, что боится Господа, достойна хвалы11, — парирую я, вытаскивая веточку из волос.
Его глаза не отрываются от моих, пока я рассматриваю размазанную по его лицу краску.
— Теперь ты это видишь? — спрашивает он, обходя меня, чтобы взять полотенце для рук. Он смачивает его водой в раковине рядом со мной, прежде чем выжать его и снова встать позади меня. Его руки упираются в столешницу по обе стороны от меня, в то время как он наклоняется надо мной, его подбородок практически покоится на моем плече, когда он говорит мне на ухо. — Как они пытаются укротить дикую природу в тебе? Как они сосредоточены на том, чтобы сохранить Его собственное природное творение в его самой чистой, самой изысканной форме? Мы созданы по Его образу и подобию, разве нет?
Он берет полотенце и вытирает грязь с моей щеки. Я смотрю на себя. Передо мной женщина, созданная по Его образу и подобию. Та, кто ищет свободы в выражении своего тела, в открытии своей души другому. Да, между нами нет супружеского союза, но разве от этого то, что мы делаем, становится менее ценным? Неужели мы боготворим все то, от чего сам Господь просит нас отказаться? Неужели мой Бог ревнивый Бог?
— Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие12, — произношу я, слова слетают с моих губ после долгих лет изучения Слова Божьего. Но эти слова: непослушание, послушание; они наполняются новым смыслом, новым пониманием, когда человек за моей спиной смотрит на меня.
Эроу читает меня в моем отражении.
— Никогда не соглашайся с дисциплиной людей, которые ограничивают свободу мысли. Это поощряет безнравственность, а не уменьшает её. Они предполагают утопию, а не ожидают реализма. Твоя религия — это созданный человеком институт, который использует страх и запугивание для поддержания власти над тобой. Но истинная сила заключена в тебе, Брайони. Она заключена в тебе и во мне. Ибо мы — жители этой земли, а не какая-то призрачная мечта людей, которые были до нас.
Я сглатываю, пока он проводит теплой тканью по моей щеке, заглядывая в мои глаза в зеркале. Эта неизбежная, всеобъемлющая истина давит на меня своим весом. Всё, что он заявляет, исходит от человека, презираемого именно теми учениями, которые он исповедует. Но где же здесь вера? Я могу не соглашаться со всеми учениями моей школы и религии, но я непоколебимо верю в нечто большее, в то время как этот человек потерял всякое подобие веры.
— Есть правильное и есть неправильное. Есть добро и есть зло, — продолжает он. — Но их определения искажены для тех, кто обладает способностью творить свою собственную судьбу. Слова искажены для них. Они подчинены тому, что им нужно, чтобы крепко удерживать власть над наивностью. Но в этой жизни, Брайони, обездоленные либо ломаются, либо строят себя заново из своих собственных разбитых на осколки костей. Слабые погружаются во тьму настолько глубоко, что существование становится вторичным по отношению к раскрытию прагматичных истин.
Мои ноги дрожат, а желудок неприятно скручивает от слов, исходящих из его измученной души. Он раскрывает версию своей собственной истории, каким-то образом эффективно согласовывая ее с моей, потому что, как он предполагает, мы одно целое.
— И в чём заключена эта истина, Эроу? — осторожно спрашиваю я.
Он вздыхает, мощные мышцы его груди натягивают толстовку, а челюсть напрягается под краской. Схватив полотенце со стойки, куда он положил его передо мной, я поворачиваюсь к нему лицом. Его карие глаза прожигают мои насквозь, пока он продолжает склоняться надо мной. Он снимает свою толстовку одной рукой, позволяя ей упасть на пол рядом с нами, прежде чем снова посмотреть на меня. Его волосы — это беспорядок темных, переплетенных локонов, свободно свисающих на лоб. Одной рукой я отодвигаю их назад, а после обхватываю ладонями его покрытое черной красной лицо.
Он неохотно позволяет мне прикоснуться к себе. Наслаждаясь своим дискомфортом, он поднимает подбородок. Я чувствую, что он пытается совершить невозможное. Подчиниться мне.
Изучаю его осторожными глазами, медленно стирая краску, его пристальный взгляд ни на секунду не отрывается от моего. Затем напряжение нарастает, энергия комнаты вокруг нас заряжается, когда он позволяет мне вымыть его, смывая остатки с брови, где виден этот большой шрам. Я продолжаю проводить полотенцем по его губам, вглядываясь в них, когда его теплое дыхание покидает приоткрытые губы, напряжение возрастает с каждым движением моей руки. Не останавливаюсь, пока его лицо не становится достаточно чистым, чтобы я могла разглядеть его полностью.
Воздух словно забрали у меня. Как будто невидимый сорняк пробирается в мое тело, обвивается вокруг легких, сжимает их, лишая меня кислорода. Как такое может быть?
— Ты... — я качаю головой, мое лицо искажается от искреннего замешательства.
Теперь я вижу это. Сходство поразительное.
— Но, у-у него есть только один...то есть у тебя есть... — я снова качаю головой, прищуривая глаза, прежде чем моргнуть и снова посмотреть ему в лицо. — Сэйнт — твой...
Во рту у меня пересохло, как в пустыне, пока я пытаюсь смириться с тем, что стоящий передо мной мужчина — практически вылитая копия самого богатого, самого могущественного человека.
Кэллума Вествуда.
Отца Сэйнта.
Мужчины, который не мог смириться с мыслью, что церемония его сына будет проходить одновременно с церемонией женщины.
Человека, который практически финансирует город, церковь и всех, кто здесь живет, благодаря своему богатству и высокому статусу.
Своему вылизанному и безупречному статусу.
Длинные пряди темных волос, зачесанные назад, волевой подбородок, эти высокие, четко очерченные скулы, изгиб носа — всё это напоминает этого злого, властного человека. Всё, кроме потрясающих изумрудных и янтарных переливов в этих пугающих карих глазах.
— Единокровный брат, — как всегда небрежно произносит он, по-прежнему глядя прямо сквозь меня. — Технически говоря.
— Но тогда это означало бы...
— Распутство. Внебрачная связь. Да, дорогая, тот самый престижный мужчина трахнул женщину, которая не была его женой, и обрюхатил её.
У меня отвисает челюсть, и я теряю дар речи.
— Можешь ли ты представить себе более отвратительное преступление для человека с такой репутацией? — говорит он, снова наклоняясь вперед. — Потому что я могу вспомнить несколько других.
Шрамы на его лице. Порез от глаза до верхней части скулы, шрам возле губы и тот, что вдоль челюсти. Неровные шрамы, которые кричат о неправильном заживлении.