1
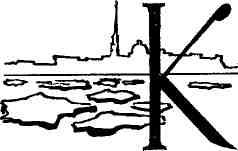
Кто видел Ленинград в дни невских и ладожских ледоходов, тот навсегда запомнит его неспокойную весну. В эти дни особенно хороши и река, быстро несущая к заливу свою ломкую ношу, и город, неожиданно сблизившийся с природой.
Весь день по Неве движутся серые льдины. Чернорабочие ледохода, его безвестные труженики, они идут кучно, подталкивая друг друга ребрами, задевая гранитные спуски. Глухой треск стоит под мостами, где день и ночь водовороты кружат и ломают не успевшие проскочить льдины.
Прошел невский лед, и наступает благодать. Яркое солнце, безоблачное небо, ни ветерка… Долой шубы, шапки, шарфы, долой валенки и боты! Где-то на Выборгской прошумел дождик, в Летнем саду уже видели молодую траву, кончилась снежная суматоха.
В один из таких горячих дней на Неве снова появляется небольшая льдинка. То сверкая на солнце, то прячась в тени, она не спеша плывет к заливу. Эта маленькая льдинка всего лишь осторожный разведчик.
С Охты видно, как идут ладожские штурмовые полки. И когда они входят в город, кажется, что вместе с весенним ледоходом устремились вперед, к морю, все ленинградские шпили, башни и ростры. Давно зашло солнце, а вечерняя заря еще долго горит на белом неспокойном льду. И даже ночью ледяной материк не теряет своего стойкого белого цвета, и тщетно кипит под новой Арктикой жадная черная вода.
Новое утро — и новые атаки с Ладоги. Река заполнена льдом, больше нет волн, вода зеленая и гладкая, как каток, по ней шурша скользит лед. Стеклянным шорохом наполнен воздух, в котором двумя равноправными потоками мчатся зима и лето. Оранжево-пепельный дым стелется над скалами льда, берега случайны, горизонт сломан, небо завернуто в черные тучи, но уже то тут, то там сияет в высоких просветах грозное майское солнце.
В том году весна была поздняя. Берлин был взят, а ладожский лед еще не прошел. Он двинулся только после праздника Победы, но прошел быстро. За три дня все было кончено. Последние льдины плыли медленно, умирая в пути.
На набережной Невы было людно. Праздничный день остался позади, но праздничное настроение еще бурлило, и как-то не верилось, что начались трудовые будни. Все радовало людей: и свежевыкрашенный катерок, идущий навстречу последним льдинам, и чайки, бурно празднующие мир, и теплые брызги весеннего дождика…
Среди гуляющего народа резко выделялась одна молодая женщина. На шелковое платье, по-видимому сохранившееся еще с довоенных времен, надета поношенная меховая жилетка. На голове солдатская шапка-ушанка. И только черные хромовые сапожки сшиты по мерке, и, кажется, по самой маленькой мерке.
Она не смотрела на Неву, не прислушивалась к птичьему клекоту и посвисту тяжелых крыльев, не повела плечом, когда упали первые дождевые капли. Ей, видимо, хотелось как можно скорее вырваться из толпы: она шла быстро, но было похоже, что идет она без цели.
Дворцовый мост. Стрелка. Университетская набережная. Молодая женщина остановилась над Невой. В совершенно прозрачной воде, какая только и бывает после ледохода, спокойно и почти неподвижно отражалась арка Адмиралтейства… Не были заметны осколочные ранения на стенах, не видно было жестоких рубцов на колоннах и статуях. Волна смыла камуфляжные полосы на зданиях; Ленинград был невредим в этом волшебном невском кристалле.
Внезапно какая-то тень сломала арку Адмиралтейства, надвинулась на знакомые с детства здания…
Небольшая льдина одиноко плыла вниз по реке. Было уже тепло, но льдина плыла вниз, безразличная ко всему в своем мерном движении к морю.
Молодая женщина шла по набережной и сосредоточенно следила за последним осколком ледохода. Чем ближе к заливу, тем круче волна. Льдина теперь часто окуналась и надолго исчезала, потом снова всплывала и, покачиваясь, двигалась дальше.
Когда волна подхватила желтую пену — все, что осталось от льдины, — молодая женщина закрыла лицо руками.
Она плакала не стыдясь. Вокруг не было ни души.
Только к вечеру она вернулась в город. На мосту кто-то окликнул ее:
— Катя!
Голос был удивленный и радостный. Она осмотрелась по сторонам, но никого не узнала. И в ту же минуту какая-то девушка повисла у нее на шее:
— Катя!
Ну конечно, девушка ей знакома. Но с тех пор прошло четыре года… До войны они вместе учились в педагогическом… Звали эту девушку Симочка… Только вот фамилию забыла…
— Катя, вы, кажется, были здесь всю блокаду?
— Да, была…
— А потом пошли в армию?
— Да…
— Это замечательно!.. Но вы, значит, так и не кончили институт? Ясно, ясно, все сразу невозможно успеть. А я вот в прошлом году кончила. Сейчас у меня громадная общественная работа. Помогаю райкому комсомола. Что?
— Я ничего не сказала.
— Большая работа. Правда, еще не в штате, но это только начало. Люди с высшим образованием очень нужны. Ну, вы-то теперь все возьмете от жизни. Вы же такая способная, я помню. Продолжать учебу фронтовикам можно без вступительных экзаменов. Вы еще нигде не работаете?
— Нет.
Катя отвечала коротко. Ей не хотелось разговаривать с Симочкой. Да и вообще ей ни с кем не хотелось разговаривать.
А Симочка все продолжала что-то рассказывать, обещала зайти, советовала как можно скорее начать учиться или работать, советовала переделать платье, материал еще очень хороший.
Когда Катя добралась до дому, начались слабые сумерки. Во дворе на веревках были развешены ковры, полушубки, накидки, шали. Хозяйки ожесточенно колотили по ним палками. В облаках пыли бегали дети, играя в штурм Берлина. Где-то пела Кармен.
Катя поднялась к себе на шестой этаж. Здесь было тихо: окно ее комнаты выходило на пустырь, заваленный железным ломом, дальше виднелся синий кусочек Невы.
Открыв дверь, Катя вспомнила, что забыла купить хлеб. С тех пор как она сдала военный аттестат и получила гражданские карточки, это уже не в первый раз. Но не хотелось снова выходить из дому. Есть банка консервов, в кастрюльке осталась вчерашняя каша, надо только подогреть.
Катя наскоро поужинала, легла и сразу же почувствовала, что не может уснуть.
В комнате не было занавесок, белые сумерки свободно проникали в окно. Стол, тахта, диванчик, письменный стол, буфет — все стояло, как и раньше, все было, как и до войны. Даже посуда в буфете, даже коврик возле диванчика, а на стене гравюра из альбома «Старый Петербург — новый Ленинград», которая ей так нравилась. Она сама ее окантовала. А фотографий на стенах она не любила.
Да, все так, как и раньше, только почему-то нет занавесок. Так она и не могла понять, куда же они все-таки делись. Никто их взять не мог.
В квартире было три комнаты. На одной из них вот уже четыре года висел замок: хозяева эвакуировались в июне сорок первого и еще не вернулись. Третья комната принадлежала столяру-краснодеревщику и его жене Елизавете Дмитриевне, массивной старухе, помешанной на чистоте. Катя ее побаивалась. Впрочем, все это было очень давно…
У окна стоит пустая детская коляска. Как только входишь, она сразу же бросается в глаза.
Непременно надо вытащить ее из комнаты. И просто-напросто подарить кому-нибудь. Но может быть, ей скажут: «Благодарю вас, но у меня уже есть своя. Разве вы не видите, вот мой ребенок в новой коляске. Я три часа в очереди стояла, но все-таки купила». Тогда Катя толкнет пустую коляску, и она неловко покатится по камням.
С необычайной остротой вспомнила Катя давно прошедшие времена. Девчата притащили эту коляску вместе с письмом: «Маленькой маме, комсоргу второго курса, Кате Вязниковой». И все с удивлением и завистью смотрели, как она пеленает своего Егорушку, заворачивает в одеяльце, а он, улыбаясь, смотрит на незнакомый ему мир.
Аркадий говорил, делая вид, что сердится: «Тебе хорошо, у тебя декрет, а у меня экзамены на носу. Вот не додумалась Советская власть давать отпуск отцу…»
Конечно, девчата завидовали ей. Вообще все ей завидовали. На улице, она это замечала, старались заглянуть в коляску. Егорушка был очень красивый мальчик.
Егорушке не было года, когда он умер. Вот в этой самой комнате, в этой коляске.
Она размачивала хлеб водой, давала ему с руки хлебную кашицу, но он не мог есть, выплевывал все обратно и смотрел на нее печальным, прощающимся взглядом.
Она была уверена, что он все понимает. Ведь он совсем не плакал. Наверное, у него не было сил заплакать.
Катя осталась жить. Она пошла в Колпино к Аркадию. На Ижорском заводе стоял дивизион, в котором служил Аркадий. На КПП Катю подобрала попутная машина.
Отцы не так переживают, как матери, Аркадий многого не знал, он не знал, что Егорушка все понимал, понимал и прощался.
Аркадий целовал Катю в глаза и все время повторял: «Мы еще молоды, у нас еще все впереди. Дай только войне кончиться». Зимой сорок первого года в Колпине говорили о войне так, словно она уже шла в пригородах Берлина. Но до Берлина Аркадий не дошел. Весной сорок второго она получила короткое извещение. Друзья рассказали подробности его гибели. Они привезли его полевую сумку с зеленым выцветшим верхом. Там было последнее его письмо. Знакомый почерк, знакомые слова: «Подожди, дай только кончиться войне…»
И все-таки на войне было легче. Там она была как будто все время с Аркадием и с Егорушкой. Здесь, в этой комнате, она отъединена от них такой страшной тоской, какой еще не знал никто: ни один человек, ни одна мать, ни одна вдова. «Никто бы этого не выдержал», — думала она.
Но так думали многие.
Она завидовала тем растрепанным женщинам во дворе, которые выколачивают пыль из ковров и полушубков. Муж дома, отдыхает, сидит за столом без пиджака, в подтяжках, закурил, думает что-то свое, мужское, подошел к окну. Увидел сына и крикнул: «Мишка, домой, это еще что за цирк!»
Она была готова всю жизнь колотить эти дрянные коврики, до скончания века.