Летом я уехал на торфяные разработки под Тейково с выездной редакцией.
Там меня затрясла жесточайшая лихорадка, и меня полуживого привезли в Ивановскую областную больницу на улицу Ермака.
Оглохнув и пожелтев от хинина, похудевший до прозрачности, я стал поправляться.
Однажды я встретил дядю Токуна. Он работал лесничим. Мы с Кукушкиным, как-то отправившись за грибами, ночевали в его сторожке.
— Куда путь держишь? — спросил меня дядя Токун. И я объяснил ему свое плачевное положение.
Дядя Токун почесал затылок. Мы взяли два билета до станции Домовицы.
Всю зиму я прожил у дяди Токуна. Я поправился окончательно. Мы вместе ставили верши и ловили рыбу. Иногда дядя Токун подстреливал зайца или тетерева. И мы устраивали пир. С молодых березок на порубках мы ломали ветки и вязали метлы. Дядя Токун в неделю раз ездил в город и продавал их. Покупал хлеб и сахар и привозил мне из библиотеки книги.
Этой осенью я поступил в педагогический институт на вечернее отделение.
Г л а в а д е в я т н а д ц а т а я
ТРУБЫ ЗАПЕЛИ ТРЕВОГУ
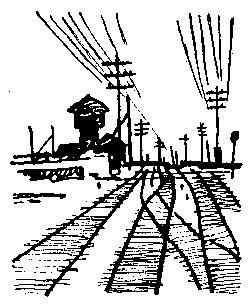
Мы становились мужчинами от первого выстрела. Сначала порохом запахло в Африке, вскоре мы начали ловить тревожные вести из Испании, потом мы с завистью рассматривали в газетах портреты первых героев с Халхин-Гола. Райкомы комсомола и райвоенкоматы отказывались от наших заявлений. А мы хотели быть добровольцами на всех фронтах. Мы учились в аэроклубах, в парашютных кружках и мотошколах. Подпоясав гражданские пиджаки ремнями, мы уходили на стрельбище и до ряби в глазах ловили на прицел поясные мишени, словно били по настоящим фашистам. Мы ровняли строй под новую песню:
Подошла и моя очередь. Семафоры поднимали руки перед нашими эшелонами, и девушки махали нам с откосов восторженно и тревожно. Мы ехали в армию.
А дальнозоркие матери смахивали с ресниц набегающие слезы. Они-то понимали своими материнскими сердцами, что война не за горами и от нее нельзя ждать ничего хорошего.
В нашей теплушке ехали: Миша Бубнов, начальник пожарной команды из города Суздаль; Венька Кузин, продавец воды с сиропом на углу Карла Маркса и Садовой; красавец Искандер Иноятов, студент химического института; скупщик подержанных часов и режиссер клуба промкооперации Колька Бляхман; могучий толстяк Ваня Федотов — потомственный сибирский охотник; инструктор физкультуры Автандил Чхеидзе и Порфиша Атюнов, только что окончивший десятилетку, ни разу не державший в своих руках бритву. Маленький и остроносый, с воробьиным голосом, при упоминании женского имени он высовывал из-под чьего-нибудь локтя свою милую хитроватую мордочку и говорил: «Чик — и нету!» — и скрывался. Что значило это восклицание, догадаться было трудно.
Серьезный человек Бубнов сидел у раскрытой двери теплушки, свесив длинные ноги, и вполголоса напевал:
Голос у Бубнова был невысокого, приятного тембра. Пел он выразительно, и мы задумчиво слушали его. Бубнов продолжал, не обращая на нас внимания. Он был занят чем-то своим. Он был уже женатым человеком и имел значок «Отличник пожарной охраны».
И вороны, сидящие на телеграфных столбах, поворачивали вслед нашему эшелону головы и чистили клювами взъерошенные на ветру перья.
— Товарищ, не наводи тоску! — сказал Автандил Чхеидзе и повернулся на нарах, и нары скрипнули, как паром на привязи, и покачнулись. Бубнов умолк, продолжая сидеть у раскрытой двери. К нему подошел Порфиша Атюнов и, видимо, сказал «Чик — и нету!», потому что ребром ладони провел по горлу, этим жестом он сопровождал свою излюбленную фразу. Потом до нас донесся тоненький и высокий голосок Атюнова:
Мы подхватили:
— Подождите, ребята, — сказал Искандер Иноятов, — а с чем же он тогда воевать пойдет?
Мы задумались над этим явным несоответствием, и песня расстроилась.
Поздно вечером наш эшелон прибыл на станцию Колбасная. Было темно и сыро. Ноги по щиколотку вязли в густой плотной грязи. Их трудно было вытаскивать. Сбившись кое-как в строй, прихватив сундучки и чемоданы, мы пестрой колонной направились в баню.
Мы раздевались донага и по очереди подходили к парикмахерам, среди которых уже успел оказаться, взяв напрокат у своей жены машинку для стрижки, Колька Бляхман. Он был беспощаден к нашим чубам и проборам. Они слетали с наших голов, как морская пена. Предбанник превращался в шерстобитню. Здесь можно было открывать производство войлока и валенок. Материала было достаточно. Мы становились похожими друг на друга круглыми, как арбузы, затылками.
После этой операции мы шли в парную, рыча от удовольствия, как стадо буйволов. Мы натирали друг другу свирепыми мочалками спины до белого каления. Потом снова выходили в предбанник и получали обмундирование.
Здесь я и встретил Кукушкина. Мы расцеловались и похлопали друг друга по влажным спинам. Все тело Кукушкина было покрыто загаром цвета мореного дуба. Мы быстро подобрали для себя обмундирование по росту.
Беда была только с Атюновым. Шинель на нем топорщилась мешком и доставала до щиколоток, рукава гимнастерки пришлось завертывать, ноги его болтались в голенищах, как песты в ступе.
После бани мы выстроились, получили по матрасу и наволочке, набили их сеном и отправились в казарму. Около часу ночи, после распределений и переклички, мы заснули.
Мы проснулись курсантами полковой школы. После зарядки и завтрака в длинном коридоре казармы начальник школы выстроил нас и сделал осмотр. Он окинул взглядом весь строй своих будущих питомцев, с правого до левого фланга, с богатыря Чхеидзе до Порфиши Атюнова. Он подошел к Атюнову и скомандовал:
— Два шага вперед! Шагом марш!
Атюнов вышел. В строю кто-то хихикнул. Начальник посмотрел вдоль строя, и снова воцарилась тишина. Он подозвал старшину и сказал, указав на Атюнова:
— Сшить все по мерке!
Через неделю Атюнов ходил как огурчик, маленький и ладный. Все на нем было пригнано, что называется, в аккурат.
Кукушкинская койка стояла рядом с моей. Но мы так уставали от занятий, что поговорить не оставалось времени. Я не успевал расспросить его, где он пропадал все это время с нашей последней встречи.
Атюнов оказался не по росту жадным малым. Он уговорил командира взвода, чтобы его назначили первым номером пулеметного расчета. Стрельбище находилось километрах в четырех от казарм. Первый номер был обязан нести тело пулемета. Атюнову это было не под силу. На полдороге обязанности первого номера перешли к Чхеидзе. Быть вторым номером и таскать не менее тяжелый станок пулемета Атюнов тоже не мог. На этой должности его заменил Федотов. Атюнов стал подносчиком патронов. Но он не унывал. В свободное от занятий время он возился с гирями и занимался на турнике, подскакивая на него с табуретки. Он наращивал мускулы. И мы над ним не смеялись. Мы любили его. Мы его выбрали комсомольским секретарем полковой школы.