Я спорил сам с собой, я испытывал странное чувство, неприятное, неловкое: отец все же остается отцом, а я, его сын, делил хлеб и вино с теми, кто изувечил его, моего родного отца, принес смерть в мою семью. Как ни старался, я не мог найти этому оправдание. Я вспомнил слова Абдуллы, просившего бога свести его когда-нибудь лицом к лицу с убийцей Ндингури. Как же быстро я забыл призыв Ньякиньи к мудрости и состраданию! Мое сердце рыдало: господи, дай мне силы, укрепи мою волю. Если бы господь простил нас всех, я, казалось мне, был бы готов на что угодно, только бы вернуть украденное у меня прошлое, мое наследие, то, что связывает меня с моим прошлым. Только бы вернуть отца! Но на пути у меня стоял Карега.
Говоря по правде, я не знал, не был уверен, за кого я хочу отомстить — за себя, за отца, за Муками?.. Я ощущал лишь неизъяснимую потребность сделать что-то такое, что даст мне ощущение причастности. Мне надоело быть зрителем, быть посторонним».
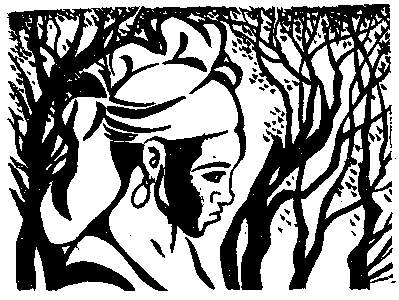
Глава восьмая
1
Карега, не оглядываясь, шагал в темноту, радуясь возможности остаться наедине со своими мыслями. Ванджа молча шла за ним следом. Голова его горела после всего, что произошло в хижине Ньякиньи. Быть может, он ни разу в жизни не испытывал таких противоречивых чувств, как сегодня. Много времени прошло с тех пор, как он потерял Муками, но только теперь, рассказав об этом, он понял, что щемящая боль и сознание вины не уменьшались с годами. Сегодня он узнал, открыл своего брата, который раньше был для него чем-то вроде призрака, затаившегося в глубине далеких воспоминаний детства. Он открыл его с гордостью и чувством признательности: брат, рискуя жизнью, передавал патроны борцам за свободу — разве не было это высшим мерилом причастности к делу народного освобождения? Вместе с тем при мысли о брате и Абдулле он испытывал благоговейный трепет: откуда такая беззаветная храбрость и вера в себя — ведь вооруженные ржавыми патронами и самодельными ружьями африканские крестьяне вызывали во всем мире лишь снисходительные ухмылки? Каким образом вера в справедливость и уверенность в своих силах могут достичь той высшей точки, когда они преобразуются в непреложную истину? Теперь в его глазах Абдулла стал олицетворением лучших качеств народа, превратился в символ мужественного кенийца. История, которая на школьных уроках воспринималась как романтическое приключение, нечто существующее лишь в воображении, обрела сегодня плоть и кровь.
Чернота ночи, окружающей его, была напоена каким-то предчувствием. Он остановился, дожидаясь, когда Ванджа поравняется с ним, но тропинка была такая узкая, что идти можно было только гуськом, и он снова зашагал впереди. Он не знал, что именно хотел сказать ей, он же понимал, что мысли и чувства во всей их неуловимой отчетливости нельзя выразить словами. Они шли к илморогским горам, и Ванджу поразило совпадение: такое один раз уже было. Все то же смутное ощущение неизбежности, точно все бесчисленные случайности, совпадения и превратности прошлого неумолимо ведут ее… но к чему? Что за зверь таится там, у нее внутри, и отчаянно стремится вырваться наружу? Они стояли рядом, глядя на равнину, неразличимую во тьме. Карега сел в траву, она рядом. Ей тоже многое хотелось рассказать, обсудить, спросить, но слова не шли с языка.
— В твоей семье, должно быть, кровь бунтовщиков, — произнесла она наконец, не сознавая, что прикоснулась к самой сути его мыслей.
— Почему?
— Ну хотя бы твой брат. Ты похож на него? Ой, забыла, ты же его не видел. А теперь вот ты. Целые две забастовки организовал в Сириане.
— Мунира тоже участвовал в забастовках, — ответил он рассеянно, потому что думал в эту минуту о своем брате и Абдулле и пытался представить себе, каково это было — сражаться в лесах.
— Конечно. Но у него-то все вышло по-другому. Он был лишь наблюдателем, посторонним, которого случайно вовлекли в схватку.
— А ты откуда знаешь? Тебя ведь там не было.
— Он сам рассказывал. — Она повторила рассказ Муниры о Чуи. — Он говорил так, будто одно только воспоминание об этом заморозило его навсегда… Да, так вот… Потом ты пытался как-то организовать торговцев шкурами и фруктами. В Илмороге ты затеял поход в город, который спас нас от голода. Это не так уж мало!
Ему нравилось слушать ее воркующий голос. Ее пальцы, случайно прикасавшиеся к его руке, источали удивительное тепло. Однако мысли его беспрерывно метались между Абдуллой, Ньякиньей, Муками и никоим образом не касались ни Сирианы, ни забастовок, ни его участия в них — они выглядели сейчас слишком банальными, слишком мелкими на фоне широкой арены событий, на которой возрождался истинный, неумирающий дух Кении.
— Думаешь, он все нам рассказал? — спросил он просто чтобы не молчать.
— Кто?
— Абдулла.
— Как сказала Ньякинья: много чего еще прячется в ею культе. У каждого из нас есть что прятать.
— И у тебя?
— Да, — спокойно сказала она.
— Вот как? Разве ты что-то скрыла?
— Наверное, придется тебе рассказать, почему я бросила школу.
И она рассказала о своей первой любви, о жажде мщения и все остальное.
Выслушав ее, он спросил:
— Это — тот человек, с которым мы встретились по пути в город?
— Да. Но я стараюсь об этом не вспоминать. Не стоит.
— Не стоит? Так ли, Ванджа? Ничего не стоит только ничто.
— Почему я должна вечно чувствовать себя виноватой, вспоминая давнее поражение? Почему оно всегда должно быть со мной?
Она говорила, повысив голос, — в его словах ей послышался упрек. Он удивленно поднял голову; как странно: разве может он, сам жертва, осуждать ее, тоже жертву?
— Не в том дело, — сказал он. — Не о том речь. Я говорил о твоих муках, страданиях. — Его пальцы непроизвольно сжали ее руку.
Она придвинулась к нему ближе, стараясь его успокоить, точно извиняясь за горячность своих слов. Ее тепло постепенно вливало силы в его грудь, в нем просыпалась жизнь. Сжав ее руки, он ощутил острую боль: в нем рождалось что-то новое, а что-то умирало. Он почувствовал, как ему передается дрожь ее тела, и при одном лишь воспоминании о Муками слезы подступил pi к его глазам. Боль давней утраты сливалась с сочувствием к прошлым страданиям Ванджи, с его собственным смятением. Так где же эта власть слов, о которой говорил когда-то Фродшем?
Слова улетучились неизвестно куда, и одно лишь сознание, одна лишь мысль о прошлых страданиях и утратах соединяла их, рождая взаимную потребность друг в друге. Его сердце кипело от запоздалого гнева, он прикусил губу, стараясь взять себя в руки, сдержать невольное признание своей и ее беззащитности. Но тот же гнев, тот же порыв увлек его, заставил прижать ее к себе сильнее и медленно опустить на траву, уверенной рукой снять с ее тела все покровы, не обращая внимания на ее не очень решительные попытки его остановить: «О, пожалуйста, не надо, Карега», — ему слышались в ее голосе надежда и желание, и он чувствовал, как кровь вскипает в нем, И они устремились навстречу друг другу в поисках исчезнувшего царства, ускользающей надежды, стремясь поскорей забыться в этом бурном натиске нового, и он вдруг почувствовал в себе огромную власть, он мог даровать исцеление, избавлять от смерти, он мог все… И он знал, что это она пробудила в нем силу, вознесла его на гребень волны, озарила перед ним далекие горизонты и неслыханные возможности…
Они проснулись утром, мокрые от росы, которая покрывала горы и равнины, траву, волосы, одежду, землю, розовеющую от первых лучей еще не взошедшего солнца.
— Проснись, Ванджа, — позвал он.
Она слышала его голос, ей было холодно, но она лежала, не открывая глаз.
— Проснись, давай встретим зарю над Илморогом, — говорил он.
Они спустились с горы и, омытые холодным сиянием утра, вскоре разошлись по своим хижинам.
2
Заря над Илморогом. Счастливый Новый год. Одна в постели. Она лежит, ощущая во всем теле покой. Покой изнеможения. Как странно. Она наслаждается этим покоем и легкостью, каких не знала раньше. Все другие связи сопровождались бесконечными тревогами, горечью, стремлением к победам — искусственным, недолговечным, мучительной жаждой мести, корыстью. Теперь другое. Святость. Мир. Ее веки отяжелели, онемели. Она словно погружается в нечто, а перед ней его глаза, его лицо. Тенгета… дух… просо, божья сила… просо — прикосновение бога. Сбор урожая. Острая боль от стеблей скошенной кукурузы. Снопы кукурузных стеблей. Листья травы. Соломинки, приставшие к юбке. Комья глины на ногах и на руках, опускающих семена в землю. Дальний путь. Путь по земле, полет по воздуху… Она в Лимуру, в своей хижине. То есть в хижине матери. Как странно все. Лицо, на которое она смотрит, не его лицо. Перед ней неловкий юноша, он вручает ей подарок: карандаш и обкусанную резинку. Она сердится. Выбрасывает подарки. Она хочет, чтобы он написал ей письмо… «Слышишь, ты, — кричит она, — если ты меня любишь, напиши мне в письме, что ты обожаешь меня». Он подбирает карандаш и резинку. Пишет дрожащей рукой: «…неисчислимы, как песчинки на морском берегу, как звезды в небе…» Она в нарядном воскресном платье… выхватывает у него письмо. Читает его двоюродной сестре, только что приехавшей из города. Она смотрит через плечо сестры в его умоляющие глаза и презрительно читает вслух… сестра вдруг исчезла… Она сидит на коленях у отца, учится выговаривать первые слова. Она пропускает трудные слоги и вопросительно глядит на отца. Отец в военной форме, он поет ей песню грубоватым, сильным голосом: «Когда я уйду сражаться за короля, мальчики и девочки, не забудьте меня, солдата, воюющего за короля».