Снова она заразила их своей бьющей через край энергией и энтузиазмом. Она умела заставить сердца мужчин трепетать от разных чувств одновременно и загораться надеждой.
— Я собирался завтра съездить в Руваини к Мзиго…
— Нет-нет, ты обязательно должен прийти, — повелительно перебила она. — И принеси мне фунт риса с длинными зернышками. Сегодня меня провожал Абдулла. Завтра твоя очередь. Или ты боишься темноты? Смотри же. Завтра будет луна. Она ознаменует первый день сбора урожая. Завтра будет… праздник стольких надежд!
Боится ли он? Нет, ни завтра, ни в любой другой вечер он не будет знать страха, радостно пело его сердце.
— Спасибо, Абдулла… Спасибо, Мунира… — нежным голосом говорила Ванджа. Мужчины встали, и каждый ловил в ее словах особый смысл, обращенный только к нему.
Мунира пожелал Абдулле доброй ночи и зашагал в темноту. Он там будет завтра, сказал он себе, он обязательно увидит ее завтра, и он улыбался своим мыслям. Прекрасные лепестки, красивые цветы… Завтра и в самом деле — первый день жатвы.
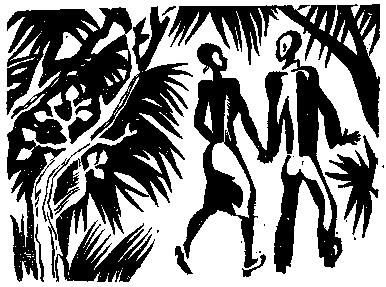
Глава третья
1
Через двенадцать лет, в воскресенье, Годфри Мунира попытался воспроизвести эту сцену в своем заявлении для полиции, заявлении, в котором он должен был говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Но он чувствовал, что, хотя та ночь все еще свежа в его памяти и все еще сохранилось ощущение обреченности, вызванное простым и страшным рассказом Ванджи, он не находит точных слов, чтобы воспроизвести ее. Он сидел на жесткой лавке, облокотившись о стол, и поглядывал время от времени на календарь фирмы Аспро, единственное украшение на голых стенах камеры. Впрочем, чаще всего он глядел на лицо полицейского офицера; он, должно быть, из новеньких, думал Мунира. Вероятно, Илморог — его первое серьезное назначение, и он, видимо, нервничает, или ему надоело ждать, а скорей всего, и то и другое. Офицер нетерпеливо потопал ногой и забарабанил по столу пальцами. Он явно терял терпение.
А Мунира пытался попять: как можно жить в этой стране и не замечать всевозрастающего подспудного волнения? Бастуют школьники, запирают в темных чуланах косных, властолюбивых учителей; рабочие бросают инструменты, отвергают временное утешение, которое сулят им так называемые трехсторонние соглашения; домохозяйки выходят на улицы, выкрикивают лозунги, сопровождая их непристойной руганью, и протестуют против высоких цен на продукты; вооруженные грабители среди бела дня под шумное одобрение толпы захватывают банки; женщины не желают принять уготованный им удел — постель и кухню, требуют равных нрав с мужчинами, требуют своей доли власти и привилегий, — все это взвинчивает нервную систему тех, кому правящие классы мира сего поручили поддержание закона и порядка. Они слишком верят в разумность миропорядка, им не приходит в голову раскрыть книгу господню и убедиться, что все это давным-давно предсказано. Ничем от них не отличаются и Карега с его последователями — рабочими фабрики «Тенгета»: они не верят в братство по цвету кожи, землячеству и общинной принадлежности, они говорят «нет» своим черным и белым хозяевам, так же как работодателям-индийцам. И они потерпят поражение, потому что отказались от самого важного братства — братства религиозного, братства нового рождения в боге и вселенского вечного царства. Так какой же еще правды домогается от него офицер? Мунира хочет объяснить ему, что Ванджа — это «она», упомянутая пророками, покоряющая мужчин и заставляющая их сходить с пути истинного… голосом, в котором слышатся страдание и протест, надежда и страх, но прежде всего — обещанием спасения через торжество плоти. Но полицейский офицер — воплощение здравого смысла мира сего — стоял или расхаживал по комнате, холодно глядя на Муниру. Ну стоит ли вспоминать, как плакала глупенькая официантка двенадцать лет назад, когда в Илмороге еще не было даже каменных домов, не говоря уж о международном шоссе, — какое все это имеет отношение к сегодняшнему дню? С таким же успехом он может открыть свою книгу и начать с Адама и Евы. Но не лучше ли будет (во всяком случае, это сохранит время и силы), если он оставит прошлое в покое и обратится к… более свежим, что ли, воспоминаниям? В том-то и дело, подумал Мунира; его слегка позабавила гневная вспышка полицейского чиновника. Тот вечер, когда Ванджа плакала, имеет самое прямое отношение к сегодняшнему дню: если бы ее голос не заворожил тогда Муниру, он увидел бы знамение, нити зловещей паутины, сотканной вокруг него самого, вокруг Абдуллы, вокруг Илморога. Он попробовал выйти из положения иначе: пусть ему дадут карандаш, бумагу и прекратят допрос хоть на какое-то время; он сам своей рукой напишет заявление, а потом полиция может задавать ему вопросы, и с божьей помощью…
Офицер внезапно стукнул кулаком по столу, он потерял всякое терпение: ему нужны факты, а не история; факты, а не проповедь и не поэзия. Убийство есть убийство, сказал он и позвал тюремщика. «Запереть в камере!»
Муниру посадили в камеру, он слышал, как звякнула цепочка замка, и испытал некое духовное удовлетворение, вспомнив Петра и Павла, услыхавших в узилище слово божие. «Убийство есть убийство» — те же самые слова еще раньше говорили полицейские — те, что пришли за ним, — зевая, вспомнил он. Он устал, он вдруг почувствовал неимоверный упадок сил после ночного бдения, и его сморил сон.
Разбудили его на следующее утро. Голова у него просветлела. Его провели в ту же комнату, но теперь перед пим сидел другой офицер, пожилой, и на лице у него ничего не отражалось, даже когда он смеялся, улыбался или шутил, — его лицо, казалось, было неспособно к выражению эмоций.
Офицер этот приехал из Найроби, чтобы возглавить следствие. Он занимал раньше разные должности при разных властях, начиная еще с колониальных времен. Преступление для него было чем-то вроде головоломки, он считал, что оно подчиняется своим особым законам — законам поведения преступника, — и верил: если покопаться как следует, эти законы всегда проявятся, в любой мелочи. Его интересовали люди — их поступки, слова, жесты, фантазии, повадки, — но все это было для него лишь ключом к решению головоломки. Он много читал, и круг его интересов распространялся на разные виды профессиональной деятельности — право, политику, медицину, просвещение, — но опять-таки он смотрел на это как на ключ к решению головоломки. Он искал лишь то, что этот ключ мог открыть, — закон, логику конкретного преступления. А найдя, умел выяснить точные обстоятельства, мельчайшие подробности и почти не знал неудач.
Он не питал никаких иллюзий относительно своей работы: своими знаниями он служил той власти, которая в данный момент была в стране, и не выказывая к ней своего отношения. С той же неуемной энергией, с какой служил в свое время колониальному режиму, он служил теперь независимому африканскому правительству и так же верно будет служить любому другому, которое придет ему на смену. Он был нейтрален, и его безграничная власть над политическими деятелями, врачами и инженерами, бизнесменами, мелкими преступниками и всеми прочими проистекала именно из его нейтральности, поставленной на службу закону. Его тайной мечтой было открыть частное сыскное бюро, чтобы люди могли прибегать к его услугам, как обращаются они к адвокату или священнику.
Это дело его сразу заинтересовало, главным образом совокупностью причастных к нему лиц. Чуи — деятель просвещения и бизнесмен, Хокинс Кимерия — землевладелец и бизнесмен, Абдулла — мелкий торговец, Карега — профсоюзный деятель, Мзиго — деятель просвещения, превратившийся в бизнесмена, Мунира — учитель и святой человек, Ванджа — проститутка. Их свел вместе Новый Город. Офицер полагал, что еще немало людей пройдут по этому делу. Он изучит и людей, и город; он приступит к делу без предвзятости, его все интересовало, и прежде всего — Мунира.
— Пожалуйста, садитесь, господин Мунира. Вы хорошо поспали?