
Юрий Куранов
ПИР НА ЗАРЕ
Миниатюры и стихотворения в прозе
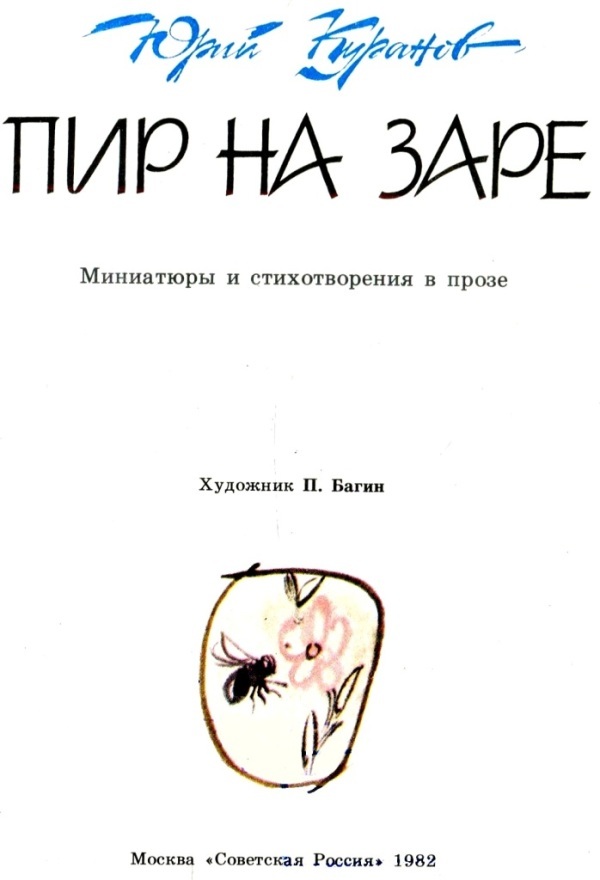
НЕНАГЛЯДНАЯ ЖИЗНЬ
Однажды мальчик увидел в лесу красивый цветок. И не сорвал его. И цветок продолжал цвести в его памяти, даже когда мальчик вырос.
Юрий Николаевич Куранов написал об этом своем детском воспоминании новеллу «Найти среди берез». Этой новеллой он поблагодарил мальчика, догадавшегося о власти красоты, о бережности к ней. И теперь в каждом сочинении его — в повести ли или стихотворении в прозе — все слышно то детское волнение перед красотой и тайной русской природы и обычной человеческой жизни.
Мы уже давно знакомы и часто жили под одной крышей. Я видел, как писатель работает, и думал, что с выходом очередной книги сразу узнаю лица и места, которые мы видели в одни часы и времена года. Но книга выходила, и от моей посвященности ничего не оставалось — все было в новость. Все вроде и знакомо, но все преображено ясным и сильным светом, приближено к самым глазам и освобождено от обыденной пыли, которая ослабляет зрение. И не в том было это освобождение, что в обычной ночи писатель видел над собой «незнакомые звезды юга: Канопус, Кит, Корабль Арго…» («Ненаглядное полотенце»), не в том, что под шум березы он думал «о лагунах Самоа, где можно плыть среди атоллов» («Береза возле бани»), а как раз в том, как простое живо и естественно соседствует у него с необычайным.
Вот в Пушкинских Горах он слушает, как ветер метет листву, «и слышно далеко, так что кажется, что где-то шумит море… Может быть, на другом краю земли вдоль Тавриды?». А в соседней строчке «какая-то запоздалая женщина оставила у дверей велосипед и покупает буханку черного хлеба». И эта подробность сразу оживает, становится хороша и значительна рядом с таврическим шумом ветра. Так часто соединяет он будничное и поэтическое, возвращая самым бедным и привычным явлениям их первозданную красоту, как будто мы только сейчас их в первый раз и увидели как следует.
Этим пленили читателей и его первые короткие рассказы, когда он счастливо и сразу заметно вошел в литературу давней теперь публикацией в «Новом мире». Он писал о ласточках, о грозе, о сладости летнего сна на повети, о подсолнухе, о русской печи, о бане и ветре, о деревенском репродукторе на столбе и последних сугробах, писал без всяких украшений с одной только нескрываемой радостью, что все эти простые вещи и явления есть, а мир с отзывчивой благодарностью открывался с неожиданной и прекрасной стороны.
В русской литературе всегда было у кого учиться пониманию красоты обыкновенного. Да как-то и мало подходит тут слово «учиться». Родная речь и родная природа с детства входят в нас — только умей слушать. Спокойная, неторопливая, как летний день, проза Аксакова, его «Детские годы Багрова-внука», если их прочитать вовремя, одни могут дать душе пищу на всю жизнь. А потом приходит Тургенев с «Записками охотника», и каждый рассказ оттуда отдается в сердце, как песня. Куранов шел этою обычной дорогой и читал то, что все в детстве читают, только, может быть, глаз у него был зорче и слух вернее.
Традиция такой прозы у нас никогда не прерывалась, и влияние первых книг не угасало, поддерживаемое в писателе рассказами Пришвина, Паустовского, Платонова. Жадно всматривается Юрий Куранов в жанр небольшого сочинения, раз от разу вернее постигая, как в нескольких строках сохранить всю полноту живой реальности и значительной мысли, следя, как от случайных черт явление наполняется поэзией и мудростью.
В юности Куранов услышит властный голос Бунина, и это влияние окажется особенно сильным, потому что в этом писателе соединились наиболее желанные, наиболее мужественные стороны русской поэтической прозы — краткость, острая наблюдательность, стилистическая безошибочность. Никакой специальной учебы не было — окликание традиций и узнавание родства совершается в прозе более потаенными путями и узнается не напрямую: только тоньше и послушней становятся инструменты писателя — свободная душа и бодрый, готовый к непредвиденным впечатлениям ум. Писатель неторопливо и последовательно работает, а талант наполняется силой. Точность его прозы становится поразительной.
Я люблю в рассказе «Голос ветра» чудесно верно отмеченную черту поздней осени: «В эти дни все оглядываются. Едет молоковоз, гремит бидонами, но вдруг остановит коней и долго вслушивается в лес придорожный: то ли падает лист, то ли ходит кто. Копают в поле картошку. Разогнутся вдруг, долго смотрят вдаль или в небо: никак журавли, да не видать чего-то». А в рассказе «Бабье лето» непременно остановишься на последнем абзаце, радуясь его неожиданности, внутренней улыбке и совершенной правде: там паук утром увидел свою полную росы паутину в лучах солнца, и «это было так удивительно, что сам паук изумленно припал к земле да так и глядел со стороны, пока не ушла роса».
Прямой переклички с Буниным, Пришвиным или Тургеневым нет ни в миниатюрах Куранова, ни в его стихотворениях в прозе, но, прочитав, например, небольшой рассказ «Утро во въездной дубовой аллее», внятно ощутишь, как спокойно и уверенно стоят эти две страницы среди других образцов русской прозаической миниатюры, как полно и уважительно продолжают они животворные традиции нашей классической прозы.
Но, конечно, влияла на писателя не одна эта традиция. Сам Куранов благодарно называет среди своих учителей и Шарля Бодлера, и — особенно! — японскую писательницу X века Сей-Сёнагён, чьи маленькие новеллы были просты и прекрасны, как рисунки старых китайских художников.
Часто в самих миниатюрах, особенно в последние годы, Куранов для того, чтобы рассказать о том или ином явлении жизни, обращается к именам живописцев или композиторов, упоминает какую-то картину или сочинение. Иногда он делает это с улыбкой, сравнивая, например, своего лукавого кота с Меццетеном — персонажем одного из холстов печально-изящного живописца Франции XVIII века Антуана Ватто, или говоря в другом месте, что этот кот был похож на «какого-то таинственного министра двора при грустной, но коварной королеве». Но чаще это нужно писателю, чтобы читатель скорее понял состояние, которое владело художником в час, когда он искал воплощения волновавшего его чувства. Иногда ведь вместо многих слов довольно напомнить какую-нибудь известную картину или музыкальную пьесу, чтобы все сразу наполнилось смыслом и верно отозвалось в читательском сердце. Это — в традиции русской литературы. И Тургенев и Бунин любили к месту вспомнить предшественников в соседних искусствах, выказывая тем самым уважение к уму и воображению читателя, а вместе с тем развивая в нем умение видеть внутренние связи внешне далеких явлений. К тому же творчество писателя, развиваясь, усложняется, и он словно исподволь готовит читателей к этому усложнению. Я тут имею в виду не нарочитую запутанность сочинения — настоящий писатель всегда ищет прежде всего простоты и доступности, — а то, что связи внутри природы и человеческих отношений делаются со временем сложнее, и писатель, пробуя соответственно выразить время, видит недостаточность прежних выразительных средств.
Между первыми и последними миниатюрами книги лежит половина жизни художника. За это время было много разного, но никогда писатель не брал в руки пера с неготовой, затемненной душой. Поэтому все здесь полно покоя и света, здорового любования жизнью, всеми ее проявлениями, как бы внешне незначительны они ни были. Это старый завет совестливой и доброжелательной русской культуры, утверждавшей устами Пришвина, что «сомнения, неудачи, несчастья, уродства — всё это переносится лично, скрывается и отмирает. А… находки, удачи, победы, красота, рождение человека — это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения».