Детство сложилось нерадостно. Отец умер очень рано. Мать отдала парнишку в учение к меднику. Это был грубый и вспыльчивый человек. Он гонял ученика за водкой, а когда напивался, то все медные тазы и чайники, принесенные для починки, летели парнишке в голову. Только успевай увертываться!
Мальчик подрос, начал понемногу зарабатывать и уже надеялся, что в семье у них начнется хорошая жизнь. Тяжелое разочарование встретило его. Он увидел, что набожная мать его давно уже пьет запоем. То молится, то пьет и что попало тащит из дома.
А потом — трудно и стыдно вспоминать Кузьмичу об этом! — она стала приваживать к водке и его красивую четырнадцатилетнюю сестру Душатку. Кузьмич попробовал образумить их, пристыдить. Но там все уже было утрачено — и совесть и разум. Юноша в горе и в ужасе ушел из дома. А когда мать умерла от белой горячки, он решил, что, значит, так надо было богу. И ни разу не возникло у него мысли о несправедливости и странном жестокосердии бога, которому он молился.
Задумываться Кузьмич стал позже. Он работал слесарем в артели по ремонту домов. Всегда трезвый и до щепетильности честный, Кузьмич видел, что не все на свете устроено правильно. Вот они, мастеровые, работают с утра до ночи, работают трудно, до полной отдачи сил, а заработок — только-только прожить. Может быть, надо бы хозяину платить своим мастеровым побольше и поменьше оставлять себе… Ведь он богатеет их трудами, не своими…
Вот ведь, слышно, шумят на заводах рабочие, требуют, чтобы заработок им повысили, чтобы лечили их бесплатно, чтобы не изнурял их хозяин на работе. Но ведь там, на заводах, их много, рабочих-то. Соберутся все вместе — сила! Да и образованные люди к ним заглядывают, подсказывают, объясняют, что надо делать и как надо делать. А здесь, в артели, что? Попробуй открой рот — хозяин тебя сейчас и по шапке!
Жизнь кружилась однообразно, без ярких событий. Чуть свет — на работу! Придет с работы — поесть, посмотреть газету «Копейку», а там уже и ночь, спать пора. Может, потому он и держался так крепко за своего бога. Религия была для него и отдыхом, и утешением, и праздником. Исконных староверских обычаев Кузьмич не сохранил. Пил и ел из общей посуды, ходил в обычную, не староверскую церковь. Но строго соблюдал все церковные обряды и каждый день, утром и вечером, подолгу молился в своей комнате перед золоченым киотом. Часто слышно было, как он журит Анну Ивановну:
«Аннушка, ты что же ложишься не помолившись?»
«Да я уж молилась, Мить! Ей-богу, молилась!»
«Что же я не видал?»
«Да молилась я, Мить, ей-богу!»
«Ленива ты молиться, Аннушка! Как только бог твои грехи терпит! Неужели спина заболит поклониться? Плохо тебе будет на том свете!»
Анна Ивановна не возражала… Но молиться и в самом деле не любила. Перекрестилась — и ладно. Однако при Кузьмиче непочтительно выражаться о церкви или о священниках остерегалась. За это он, тихий человек, мог даже и стукушку дать.
…А коровы по-прежнему жалобно ревели на заднем дворе.
Вечером пришла коровница старуха Степаниха с Четвертой Мещанской.
Тогда на московских окраинах немало стояло по дворам коров, лошадей. В маленьких деревянных домах жил народ пришлый, из деревень. В подмосковных деревнях мало сеяли хлеба, да и не очень-то он родился на лесных заболоченных пустырях. Больше жили Москвой. Накосят сена — в Москву, на рынок. Накопят масла, яиц — в Москву. А из Москвы везут хлеба.
Если же хозяйство такое немощное, что и на хлеб продать нечего, шли в Москву на заработки — в полотеры, в дворники, в извозчики. Или заводили коров, торговали молоком. Хорошая корова тогда стоила десять рублей, а плохонькую, деревенскую буренку можно было купить и за пять. Ходить за коровами, кормить, доить хоть и тяжело, но деревенскому люду привычно. Да и за какую же еще работу возьмешься? Никакому ремеслу деревня не обучила.
Молочники держали по три, по четыре коровы. Но прибыль от них была так невелика, что еле хватало прожить с семьей. В деревне скот все лето на пастбище, а тут круглый год надо было покупать коровам и сено, и жмых, и отруби. И за квартиру надо было платить хозяину, и за сараи, да одеться, обуться. А молоко стоило всего пять копеек кружка.
Так и жили: коровы сыты и сами сыты, да и крыша есть над головой. А работа — с утра до ночи, и в будни и в праздник, на всю жизнь, пока руки не отсохнут.
У Степанихи было всего две коровенки, и жили они со своей дочерью рябой Дуницей совсем бедно. Однако Степаниха никогда не унывала, вечно у нее шутки да присказки. А что ж унывать? От этого жизнь не получшает!
— Погонимте коров на свалку, там травка поднялась хорошая, — сказала Степаниха. — Нефедов вон третий день гоняет своих. Городовой видел — ничего не сказал!
Поговорили, посоветовались и решили на другой день отвести коров на свежую травку.
Наутро мама и отец отвязали своих коров и повели на свалку.
— И я! — закричала Соня. — Девчонок позову!
И побежала к своей подруге Шуре.
Шура Селиверстова жила в сером флигеле, и старый клен, который стоял во дворе, глядел прямо к ним в окна.
Соня поспешно поднялась по белой каменной, чисто промытой лестнице. Но не успела она войти в сени, как из квартиры вышла Шурина мать. У нее в руках была большая банка варенья — Шурина мать вышла отнести варенье в чулан.
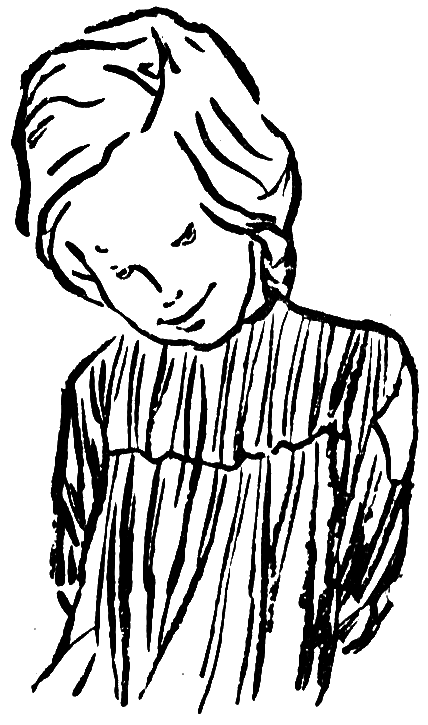
— Я к Шуре, — робко сказала Соня. — Мы на свалку идем.
— А кто еще идет? — спросила Шурина мать.
— Папа и мама идут. С коровами.
Шурина мать чуть-чуть задумалась, отпирая чулан. А потом покачала светло-русой головой:
— Нет, Соня, твои папа и мама будут смотреть за коровами, а не за вами. Нет, Шура не пойдет на свалку!
Соня огорчилась — Шуру никогда никуда не пускают без мамы! Но она ничего не сказала, спустилась с лестницы и побежала к Лизке.
Лизка была дочка сапожника. Входить к ним надо было с улицы — прямо в сапожную мастерскую. У них над облупленной дверью висела вывеска: «Починка сапог и бареток. Сапожник Очискин», — и по обе стороны двери смотрели на улицу два мутных, вечно забрызганных грязью окна.
Соня только чуть приоткрыла дверь, а Лизка уже увидела ее.
— На свалку? — радостно просипела она. — Пойдем!
Лизка, когда была еще совсем маленькой, очень сильно простудилась. С тех пор у нее почти пропал голос. Она не говорила, а сипела и смеялась так, что и не понять было: не то смеется, не то просто хрипит. Во дворе ее звали Лизка Хрипатая, и она на это нисколько не обижалась.
Уж Лизка-то обрадовалась свалке по-настоящему! У них в комнате никогда не бывало солнца. Да и свету почти не было — грязные окна не пропускали его. Комната была только одна. В углу, под окном — «починка сапог и бареток». Длинный верстак, за верстаком, на «липке», — Лизкин отец, сапожник Очискин. Рядом — его мастер, угрюмый рябой мужик, и мальчик — ученик Ванька, по прозвищу «Лук — Зеленый, молодой». А в другом, в темном углу — кровать, маленький стол и тусклое зеркало. Тут жила, спала и ела семья сапожника Очискина — Лизка и ее мать.
Соня робко стояла у дверей, пока Лизка пыталась причесать свои густые белесые волосы. Сапожник и его подмастерья работали молча, мрачно, с каким-то злым нетерпением. Все они сидели неумытые, со всклокоченными волосами. Мрачнее всех, всех угрюмее и злее работал сам хозяин, Лизкин отец.
На полу, загромождая почти половину комнаты, кучей лежала обувь, принесенная для починки, — сапоги, туфли на высоких, покривившихся каблуках, башмаки на пуговицах… В комнате стоял густой душный запах пыли, вара и старой кожи. Как же не обрадоваться Лизке этой возможности — побежать на свалку, где светит солнце и растет трава!
Когда Иван Михайлович и Дарья Никоновна повели коров по двору, то к ним, вслед за Соней и Лизкой, слетелись почти все ребятишки — Оля Новожилова с третьего этажа, ее сестренка, стриженая Тонька, Сенька-Хромой из шестой квартиры, его брат, худенький, сухопарый Коська, Матреша, дочка ломового Алексея Пуляя, недавно приехавшая из деревни… И все гурьбой отправились на свалку, вслед за коровами.