Елена Петровна подвела к ней хорошенькую, чисто умытую девочку с ямочками на щеках, с тугими толстыми косами, завязанными большими бантами.
— Хотите сидеть вместе?
— Хотим, — сказала девочка.
И они уселись на третью парту прямо против стола учительницы.
Девочка сейчас же нагнулась к Соне:
— Тебя как зовут?
— Соня Горюнова.
— А меня Лида Брызгалова.
Лида понравилась Соне. И фамилия ее понравилась. Только она немного побаивалась и стеснялась новой подруги.
Вспомнилась Шура — как бы хорошо им было сидеть вместе на одной парте! Но задумываться было некогда. Множество впечатлений слегка оглушило Соню. Маленькие события непрерывно текли одно за другим. То надо было ответить, какие она знает буквы, то рассмотреть новенькую тетрадку, которую положила ей на парту учительница, то научиться закрывать и открывать парту так, чтобы она не стучала…
Потом зазвенел звонок. Надо было выйти в коридор на перемену. Открылись двери всех классов, и в коридоре сразу стало тесно. Тогда Елена Петровна собрала свой первый класс, поставила девочек в круг и стала играть с ними в «кошки-мышки». Девочки бегали, смеялись, визжали… Соня тоже развеселилась. Когда их отпустят из школы, она придет домой, в свой двор, и научит ребят играть в «кошки-мышки»… Только вот как она пойдет домой одна?
Но оказалось, Лиде Брызгаловой идти в ту же сторону, что и Соне. У школьных ворот Лиду встретила девушка в платочке и белом переднике. Это Лидина мама прислала горничную встретить Лиду. И они втроем дошли до Сониных ворот.
— Смотри-ка! — сказала весело Лида. — У них на воротах кувшинчик нарисован! Зачем это?
— Это наш кувшинчик, — ответила Соня.
— Ваш? А зачем вы его повесили?
— Потому что мои папа с мамой молочники. У нас есть коровы…
— Молочники-и… — протянула Лида и выпятила нижнюю губу. — А нам тоже одна молочница носит молоко. А вы тоже носите?
— Кому мама носит, а другие сами приходят.
Соня еще раз посмотрела на коричневый кувшинчик, нарисованный на голубой дощечке. Какой он хорошенький и даже блестит, будто настоящий.
— Пойдем! — сказала Лида и потянула за руку девушку-прислугу.
Та оглянулась по сторонам — не идет ли трамвай? — и они обе побежали через дорогу.
В этот день Соня до самого вечера рассказывала всем, что было в школе, как надо играть в «кошки-мышки» и какая красивая девочка-соседка сидит с ней за одной партой. Втайне Соню неприятно удивляло, что Лида ушла не простившись. Почему? На что она обиделась? Но говорить об этом Соне ни с кем не хотелось, это было занозинкой в ее радостях первого школьного дня.
А об Елене Петровне она даже не решалась рассказывать. Учительница Елена Петровна была для нее существом высшим, которое можно только любить, безусловно слушаться и на которое можно любоваться украдкой.
Когда Елена Петровна в конце перемены взяла стул и уселась в коридоре, то Соня тихонько стояла сзади, у самой спинки ее стула. Она глядела на завитки ее волос, на белоснежную кофточку, дышала свежим запахом ее духов — и была очень счастлива!
Раздор в квартире
Увлеченная школой и множеством новых впечатлений, Соня не особенно прислушивалась к разговорам в квартире. А разговоры сегодня опять были какие-то тревожные, наполовину непонятные. Художник Никита Гаврилович почти не работал, он то выходил из своей комнаты; то уходил и закрывался, а потом снова выходил. Бледное лицо его было словно озарено внутренним светом, глаза блестели. А отец сидел в кухне на сундуке, понуро опустив голову.
Соня рассказала все, что могла, о школе и села разглядывать букварь, который сегодня дала ей Елена Петровна. Но глаза глядели в букварь, а уши, помимо воли, прислушивались к разговорам.
— Этот человек — герой! — слышался в кухне возбужденный голос художника. — Придет время — таким людям будут памятники ставить!
— Герой-то он герой, — негромко отвечал отец, — да к чему оно, его геройство-то?
— Как же — к чему? Разве не понимаете вы, что он Россию от злодея избавил! Ведь Столыпин, как тяжелый камень, давил каждое светлое начинание, каждое движение в защиту трудового народа! Все задушил, все тюрьмы переполнил лучшими людьми нашего общества! И вот — нет его! Сброшен! Убит!
— Да еще не убит. Гляди, отдышится.
— Столыпин-то, может, и отдышится, — грустно сказала мама, — а уж этому молодому человеку, который стрелял, в живых не быть.
— А я так думаю, что все это по глупости, по молодости, — отозвалась из своей комнаты Анна Ивановна. — Сидел бы дома — цел был бы. Не знал, на что шел.
— Нет, он знал, на что шел! — закричал Никита Гаврилович. — Знал, и за что жизнь отдавал. За нас он жизнь отдавал, за наше счастье, за то, чтоб нам всем, кто трудится, легче дышалось на земле! Пусть его те проклинают, кому дороги эти устои господ и рабов, для кого богатство и деньги — самое великое божество, кто презирает труд и, не трудясь, захватывает все лучшее на земле! А мы его имя должны поднимать как знамя!
— Так-то оно все так, — задумчиво возразил отец, — да ведь будет ли толк? Нынче Столыпина убили, а завтра на его место такой же Столыпин сядет. Да, может, еще и позлее. Вот и выходит — за что же человек свою молодую жизнь отдал?
К вечеру эти разговоры утихли. Мама всех просила:
— Помолчите вы, пожалуйста! Иван, прошу тебя, придержи ты язык. Скоро Сергей Васильич придет — а вдруг какое слово и подслушает? Накличете беду!
Но Сергей Васильевич едва вошел в квартиру, как тотчас и начал о том, что случилось сегодня в России.
— Слыхали, а? Слыхали, какое злодейство-то в Киеве случилось? Убили! Какого человека-то убили — статс-секретаря, председателя совета министров, господина Столыпина! А? До чего дошли мерзавцы! В самого господина Столыпина стрелять!
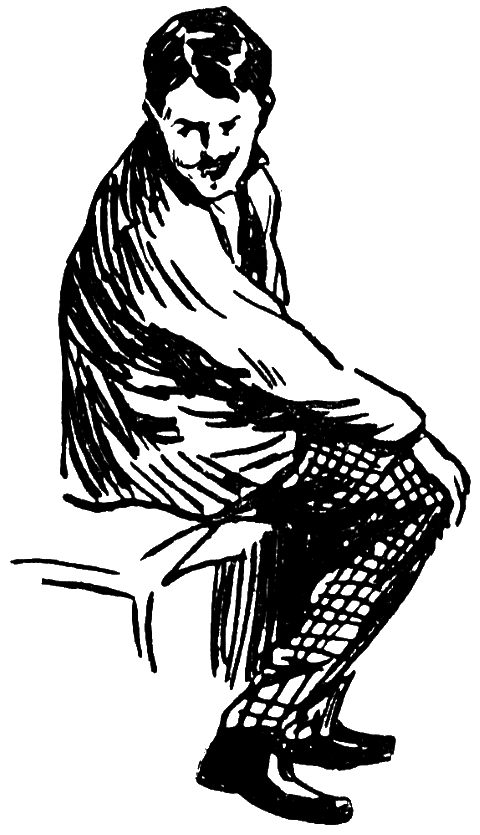
Художник, с красными пятнами на щеках, с горящими глазами, выскочил было из своей комнаты, но Дарья Никоновна тут же подошла к нему и решительно сказала, коснувшись рукой его плеча:
— Зачем вы встали, Никита Гаврилыч? Вы больны, вам лежать надо. Идите, идите, ложитесь, а я вам сейчас чаю горячего принесу.
Художник молча взглянул на нее, нахмурился и почти убежал из кухни. Слышно было, как защелкнулся крючок на его двери.
Сергей Васильевич еще долго бушевал.
— И ничего-то не боятся подлецы, а? Да крикнули бы меня: «Иди, Сергей Васильич, расправься с бунтовщиком с этим, посягнувшим на законную царскую власть!» Уж я бы расправился, уж я бы ему показал! Такого человека убил! А?
— Да, может, еще и не убил, — сказал отец, — может, обойдется. А уж с этим… как его там… Богров, что ли?.. с этим-то бедолагой и без вас расправятся.
— Ишь ты — бедолага! — еще больше рассердился Сергей Васильевич. — Пожалел, значит! Он в людей стреляет, а вам его жаль!
— Так ведь и Столыпин в людей стрелял…
— Иван, сходил бы ты завтра за сеном, — вмешалась Дарья Никоновна, — сена мало осталось. И жмых кончается. С каких пор собираешься на Сенную! Доведешь, что и коровам дать будет нечего.
— Ладно, схожу.
— Зубы-то не заговаривайте! — Сергей Васильевич ехидно прищурился в сторону Дарьи Никоновны. — Вижу я ваши маневры. Мы в пятом году таких молодчиков из пушек расстреливали! А тех, кто жалел их да прятал, — в Бутырки. Чтобы знали, против кого идут!
Все в квартире молчали. Дунечка попробовала отозвать Сергея Васильевича в сбою комнату, но он только отмахнулся. Он уселся на стул в комнате Ивана Михайловича и продолжал высказываться, намекая на свою темную и страшную силу.
— Мы, бывало, курсисток этих нагайками! Тоже лезут в политику. Раненых, вишь, прямо из-под пуль тащат, перевязывать их надо, спасать. А зачем перевязывать, если они против царя идут? Одну, помню, поймали, отхлестали как следует. Да еще я разок кулаком добавил. Вроде и ударил слегка, а слышу — хрустнуло. После слышал — два ребра сломал…