Вжимаясь спиной в могучий ствол инжира, Габриэль жадно и больно озирался по сторонам, ощущая бесконечное дыхание множества жизней… И на ущербе своих последних минут ему вдруг открылась неповторимая простота бытия, растраченного впустую в фанатической гордыне вдали от людей. Теперь, живя скорее кожей, чем сердцем, он был не в состоянии восстать, возмутиться, а поэтому плакал, как плачут старики в слабости отходящей жизни. Сморщенное сухое лицо его беззвучно страдало от нахлынувшего горя. И он на мгновение ощутил себя молодым и крепким, по-прежнему влюбленным в светлый и радостный образ княжны Шервашидзе.
— Господи, зачем ты надсмеялся над моей любовью… — прохрипел он от подступившего кашля и удушья. Габриэль рванулся было изо всех сил, чтобы встать с места, но силы покинули его, и жизнь, теплившаяся в груди, резко застыла, играя на устах усопшего улыбкой счастливого освобождения…
На следующий день, как и полагалось по местному обычаю, разослали по деревням горевестников, чтобы оповестить близких и дальних о смерти гробовщика, предварительно снабдив их списками тех, кого следовало бы пригласить на похороны. Но то ли горевестники оказались недобросовестными, то ли не нашлось ни близких, ни дальних родственников, на похороны Габриэля пришел лишь колхозный оркестр, добровольно пожелавший играть, и еще несколько человек из тех, что вечно страхуются у бога, чтоб заручиться тепленьким местом на том свете за христианское сердоболие, да дети, получившие доступ во двор гробовщика.
Лежал Габриэль в коротком гробу, поскольку так и не удалось закончить работу над собственным, сдавленный размерами. Голова его была высоко приподнята, ноги согнуты в коленях, плечи выставлены наружу.
За гробом сидела Матро, окруженная с двух сторон снохами, пришедшими бог весть из каких соображений проводить старого гробовщика в последний путь, и бесстрастно, заученно причитала…
Но бездыханное тело Габриэля было бесчувственно к стараниям Матро. Он спал вечным сном, играя бессмертной улыбкой прозрения…
И те немногие, что заходили взглянуть на гробовщика и убедиться, нет ли в его смерти какого-нибудь подвоха, были удивлены выражением радости на лице Габриэля, приобретшего человеческий облик и вернувшегося — пусть мертвым — в мир человека.
— Ишь ты, как его! — удивлялись они и медленно, молча брели по тихим улицам деревни, расходясь по домам.
Смерть, чья бы она ни была, никогда еще не приносила людям радости…
А за дальними виноградниками бывшей усадьбы князя Шервашидзе долго тлел большой холодный закат. И деревня незаметно погружалась в щемящую грусть сумерек…
Москва,
1968
О ЛЮБВИ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ…
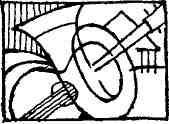
Мой старший брат имел шестнадцать лет и бейный бас[9].
Он вставал рано утром и драил свой медный духовой инструмент. Потом, повернув огромное ухо этого чудовища на восток, принимался из него выталкивать утробные звуки. И когда наконец из-за синих гор начинало проглядывать кровавое лицо солнца, брат обнимал свое охрипшее животное, как любимую, и укладывал на кровать. Затем, окатившись холодной водой у родника, садился за стол.
Завтракать он любил плотно — несколько штук горячих квери[10] с мацони, хороший кусок свинины и бутылка черного вина… Черное домашнее вино вошло у него в почет сразу после ухода отца на фронт. Теперь все бочки нашего подвала находились в прямом и безоговорочном подчинении старшего брата.
За столом, как всякий гурман, он не отвлекался на постороннее. Ел всегда молча, как бы боясь нарушить взаимосвязь жевательной системы с подачей пищи. Перемалывая утренний рацион молодыми жерновами, он сообщал вращательное движение беспокойным яблокам глаз, остановка которых означала: один этап закончен, перехожу к другому. Но если глаза прекращали круговое вращение и начинали светиться блаженным спокойствием серебра, значит, пища производила желаемое действие. В таких случаях его хорошее настроение вставало из-за стола и, отпечатывая шаги по комнатам, насвистывало военные марши. Потом, отдав мне по-армейски честь резким поворотом головы, все тем же твердым шагом выходило за ворота, чтобы еще раз попытать счастья у военкома.
Мой старший брат ходил к нему каждое утро за пять километров и каждый раз возвращался оттуда усталый и кислый, как будто военком выколачивал из него дух юношеского задора…
Две его сильные страсти — стать героем, а потом повстречать хорошенькую девушку, гасли в кабинете несговорчивого военкома и вспыхивали с новой силой в стенах родительского дома.
Возвращаясь вечером домой, брат нарочно задерживался в проеме двери, чтобы бросить уничтожающий взгляд на мать еще с порога.
Мать, как правило занятая домашними делами, встречала его полувзглядом бокового зрения, завязывая с неудачником диалог глазами…
М а т ь. Ну, вижу… проходи и выкинь из головы глупость…
Б р а т. Ну что ж, пройду… но последнее слово за мной… И тогда мы посмотрим, как ты будешь встречать пустой проем двери…
М а т ь. Так думал бы о школе… скоро откроют…
Б р а т. Школа… гори она…
Затем мать поворачивалась к двери и строгим взглядом запихивала брата в комнату:
— Переодевайся! И не смей больше трепать чужую одежду! Человеку с фронта не во что будет одеться…
Напоминание о фронте сладостно пьянило душу моего старшего брата. В такие минуты он моментально забывал о своих неудачах и начинал широко расхаживать по комнате. Затем, хватая графин за горлышко, водил им по столу, гремя, словно гусеницами танка, идущего на вражеские позиции. Но и здесь мать ни на минуту не давала ему оторваться от земли, искусно выводя из мечтательного оцепенения и возвращая в узкий домашний мир вещей.
— Не греми! Ты не один в доме… — И как ни в чем не бывало приступала к чтению отцовского письма, в котором сквозило неуемное желание скорей вернуться домой к своему винограднику.
— Пусть подвязывает виноград, чего там сидит! — победно бросал брат, словно уличив отца в трусости, и, всучив мне граненый графин, приказывал спуститься в подвал.
Позже, значительно повеселев за ужином, он уходил на кирпичный завод в надежде вкусить от греха радость…
На заводе тогда в основном работали эвакуированные женщины, тугие и крепкие, как грецкий орех.
Мой старший брат пропадал там все вечера, чтобы как-нибудь раскусить один из орехов… Но, так и не раскусив его, благополучно покинул кирпичный завод. Так завершилась эта короткая история и началась другая.
Ранним утром, надраив в последний раз свой бейный бас, он вышел с ним на улицу, чтобы навсегда вычеркнуть из списка нашей семьи этого симпатягу. Зато к вечеру вернулся с новой гитарой под мышкой и с золотым обручальным кольцом на мизинце, что придавало ему вид заядлого гитариста, безнадежно больного неразделенной любовью…
Теперь по утрам брат выходил на веранду и, закинув ногу на ногу, начинал пощипывать струны. Гитара, усаженная на колени, как любимая, жутко и однообразно взвизгивала, отнимая у меня сладкие минуты утреннего сна.
Зарывшись с головой под одеяло, я посылал этой невыносимой психопатке и ее обреченному на грусть партнеру самые отборные проклятия, на какие только был способен восьмилетний мальчик. Правда, они так и не доходили до адресатов, но все-таки несколько облегчали мою участь. Иногда на помощь мне приходил наш колхозный бригадир. Ему частенько удавалось расцепить влюбленных — брата с гитарой — и, вытащив на улицу, отчитать как следует за увиливание от помощи колхозу. Но чаще всего счастливые утра выпадали благодаря недавно расквартировавшейся у нас группе по задержанию и разоружению диверсантов, за что я был ей особенно признателен. Не скажу, как у нее обстояли дела насчет задержания и разоружения диверсантов, но что касается моего брата, то она моментально вышибла его со двора на улицу. Стоило только долететь до его слуха задорному цоканью копыт, — это значит; по улице мимо нашего двора проплывала, лихо пританцовывая на тонконогих иноходцах, группа молодых всадников в черных архалуках, — как брат тут же бросал гитару и бежал к калитке, чтобы поглядеть вослед этим черноусым ребятам. Так порою он мог простоять до их возвращения.