— Ну, раз так, — сказала мать после некоторого раздумья и выпустила курицу. И уже без всякой хитрости добавила: — Но как поймать петуха? Он совсем одичал…
В котле вода уже весело булькала, требуя жертвы. Но жертва хоть и была определена, ее еще нужно было поймать.
Я сбегал в дом за шпагатом и, связав его петлей, разложил под кустами фейхоа, подбрасывая в круг кукурузные зерна.
Мать, стоя рядом со мной у конца шпагата, ласково подзывала петуха, чтобы уверить его в том, что ничего плохого с ним не собираются делать.
Петух после долгого упрашивания осторожно вышел из-под кустов и, издали покосившись на кукурузные зерна, не ринулся на круг, как того хотели мы, а шел не спеша, размеренно, с временными остановками, давая себе возможность подсмотреть, не таится ли опасность за этими зернами. Но вот наконец приблизился к петле, измерил расстояние до зерен взглядом и, встав прямо на бровку петли, с чуткой осторожностью принялся склевывать их, победно улюлюкая после каждого склеванного зерна.
— Дикий! — со скрытой радостью проговорила мать, оборачиваясь на Зосмэ, словно оправдываясь перед ним за поведение петуха. — В тяжелую годину дичают даже домашние птицы!
Она подбросила еще несколько зерен, ласково заманивая петуха в круг.
Увлекаясь этим своеобразным поединком с петухом — кто кого перехитрит, — сам того не замечая, я стал заражаться охотничьим азартом. Трусливое гоготание петуха вызывало у меня отвращение к нему. И я, совсем позабыв о Зосмэ, принялся усыплять его бдительность ласковым призывом, при этом ни на секунду не расслабляясь и держа конец шпагата наготове.
Петух, должно быть, как бывает с трусами и хвастунами, польщенный излишним вниманием, потерял бдительность и переступил бровку петли. Петля молниеносно затянулась на его ногах. И тут, когда дело уже было сделано, я понял, что стал слепым орудием мести в руках хитроумного Зосмэ. Но отступать теперь было поздно.
Мать тут же подошла к петуху и, подняв его, пошла к зловеще бурлящему котлу.
Гордость всех петухов, когда-то славивших наш двор, черный породистый петел жалко свисал с рук матери, схваченный за ноги.
— Это был один из лучших петухов! — сказала мать как можно жалостливее, подходя к костру, у которого сидел Зосмэ, и опустила голову петуха на полено, чтобы ударом топора отсечь ее последнему из лучших представителей фауны.
— Ничего, Илита, бог даст еще! — ответил старик с клокочущим волнением в горле.
Мать еще раз повторила:
— Породистых кровей, таких теперь не разведу!
Тем временем, пока между матерью и Зосмэ продолжался поединок, который явно заканчивался в пользу старика, петух, находясь во власти дурного предчувствия, неистово бился о землю, норовя клюнуть матери руку. Но все это было напрасно. Мать с силой придавила петуха к земле, и теперь беспомощно распластанное тело мелко подрагивало под ее руками…
— Неси топор! — сердито прикрикнула на меня мать. — Чего стоишь, иди!
Я ленивой походкой направился к сараю, сопровождаемый подавленным горловым хрипением петуха.
— Нету здесь топора! — отозвался я из-за сарая, держа в руке топор и норовя его куда-нибудь забросить.
— Ищи лучше! — подвергая мои слова сомнению, сказала мать.
— Нету здесь топора! — снова соврал я и размахнулся, чтобы зашвырнуть его в огород.
Но тут из-за угла сарая выросла мать с несчастным петухом на весу. Приблизившись вплотную с каменной суровостью во взгляде, она протянула ко мне свободную руку:
— Отдай!
Настойчивость матери заставила меня подчиниться.
Я отвернулся от нее и с ненавистью протянул топор.
И, унося в одной руке топор, а в другой — петуха, она пошла обратно к огню. Но не успела дойти, как вдруг неожиданно, грохоча колесами, у наших ворот остановилась телега. Затем скрипнула калитка и послышался знакомый голос, ошалевший от радости:
— Тетя Илита! Тетя Илита!
Это был колхозный извозчик, мальчишка лет тринадцати по имени Арсен. Он стоял в середине двора и продолжал звать:
— Идите скорей! С вас причитается за радостную весть.
Наконец, завидя нас, растерянно идущих на крик, сунул пальцы в рот и лихо засвистал.
Пройдя еще несколько шагов, я встал как вкопанный посреди двора. Непонятное чувство страха сковало меня.
За приоткрытой калиткой стояла колхозная подвода. Рядом с ней на одной ноге, опершись на костыли, возвышался отец. Обросший серебрящейся колючей щетиной, безрадостно озирался по сторонам. За плечами его болтался тощий армейский вещмешок.
— Иди, иди! — в порыве радости сказал Арсен, подталкивая меня в спину навстречу отцу, уже вступившему на зеленый двор.
Отец шел рывками, раскачиваясь на костылях и приземляя израненное тело на одну ногу через равные промежутки.
Не выдержав накопившегося горя, я заплакал в крепком детском отчаянии.
Мир входил в наш дом на одной ноге.
— Иди, сынок! — тихо сказала мать, как пораженная, стоя на месте, по-прежнему не выпуская из рук топора и улюлюкающего в страхе петуха. — Иди, отец ведь твой…
Арсен, по-взрослому скрестив на груди руки, широко улыбался, переводя взгляд от одного к другому. Затем, увидев идущего на шум Зосмэ, весело напомнил:
— Тетя Илита, не забудь про магарыч!
Мать, наконец опомнившись, бросила топор на землю, выпустила петуха и, тихо плача, пошла навстречу отцу.
А петух, стрелой пролетев мимо посрамленного гадальщика, взлетел на крышу дома, с крыши — на печную трубу и, встав на одной ноге, принялся воспевать непрочный мир человеческого бытия…
Москва,
1968
ГРОБОВЩИК
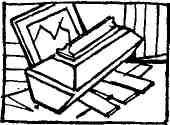
Габриэль был у нас единственным гробовщиком на всю округу.
И хотя покойники не выражали ему своих восторгов, но надо сказать, что гробы у него получались добротные и пользовались заслуженным успехом заказчиков. Никто другой не мог соперничать с ним по части этого ремесла. Неустанный кропотливый труд и необыкновенное волнение, с каким приступал он к очередному заказу, снискали Габриэлю славу взыскательного мастера. Имя гробовщика было широко известно даже за пределами нашей округи. Габриэль, на заре своей юности утративший всякое уважение к живому, тепло и сочувственно относился к покойникам.
Трагическая случайность, открывшая в нем незаурядный талант гробовщика, давно позабылась. Теперь мало кто помнил влюбленного юношу, бескорыстно сделавшего свой последний подарок любимой. А началось ведь именно с этого.
В один из майских дней шестнадцатого года трагически оборвалась жизнь красивой княжны Шервашидзе.
Тронутый скорбным известием девятнадцатилетний Габриэль, тайно любивший княжну, отважился войти в княжеский дом, чтобы проститься с любимой.
Аккуратно убранная княжна возлежала на персидской тахте и казалась заснувшей: не тронутое солнцем лицо ее было безмятежно чисто, веки тихо прикрыты, словно для того, чтобы соединить сон и явь невинной усмешкой.
Поднявшись на цыпочках в зал и приблизившись к княжне, Габриэль рухнул на колени, затем, легонько прикоснувшись губами к ее одежде, глухо, по-мужски зарыдал. Но тут чья-то твердая рука подняла его на ноги и вывела во двор, где убитый горем старый князь скулил, как раненый зверь. Габриэль, боясь княжеского гнева, в отчаянии покинул двор и, очутившись наедине с собой, молитвенно воздел руки:
— Господи! Обрати все это в сон! Не дай угаснуть надеждам…
Но бородатый лик господа, пригрезившийся Габриэлю, лишь мелькнул в разрывах туч и тут же растаял.
Возвратившись домой поздней ночью, Габриэль заперся в сарае. И, не притрагиваясь к еде, принялся собирать свой последний подарок княжне.
Дивились домашние, слыша стук молотка и шуршание фуганка. Раньше никогда они не замечали за Габриэлем тяги к столярной работе. Но вот отворилась дверь сарая и из нее показалось угрюмое лицо юноши, а затем и гроб.