— Эко чего помянул. Сегодня в чести, а завтра — свиней пасти.
— Уходи, подлый переметчик! — вскипел Третьяк Федорович.
— Я-то уйду и поживу еще, слава Богу. А вот тебя, дурака, ждет казнь лютая. Одумайся!
— Честь дороже смерти, — твердо молвил Сеитов и плюнул предателю в лицо.
Самозванец не отважился казнить Сеитова прилюдно. Ночью его тайно вывезли в лес и изрубили саблями.
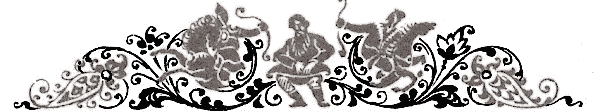
Глава 7
ОТШЕЛЬНИК
Вечор. Желтый огонек сальной свечи в медном шандане кидал трепетные блики на бревенчатые стены. За столом сидели Анисим с Евстафием. Толковали:
— Зело худые времена приспели, сыне. Чует сердца, хлебнем еще горюшка.
— Худые, Евстафий. Сколь людей из Ростова набежало. Ох, и выпало им! От города-то, чу, остались одни головешки.
— Ляхи — чисто ордынцы. Даже малых чад не пощадили, изуверы.
— Истинно. Собор Успения разграбили, золотые и серебряные ризы с икон ободрали. И другие храмы осквернили, святотатцы!
С лавки послышался негромкий протяжный стон.
— Никак, очнулся.
Евстафий шагнул к лавке и склонился над Первушкой.
— Как ты, сыне?
Первушка, не раскрывая глаз, глухо, невнятно пробормотал:
— Камень…Храм Покрова… Камень…
— Сызнова бредит, — вздохнул Евстафий. — Помоги ему, Господи.
Скитник Евстафий появился во дворе Анисима три недели назад. Не распознал его торговец рыбы. Перед ним стоял глубокий старец в ветхом рубище, заросший длинной серебряной бородищей.
— Здрав буде, сыне Анисим.
— И ты будь здрав, старче… Не ведаю тебя.
— Не мудрено, сыне. Почитай, десять лет в пещере обретался. Евстафий я.
— Господи! — всплеснул руками Анисим. — Вот уж не чаял тебя повидать.
— Чего не чаешь, сыне, скорее сбудется. Вышел я из скита.
— Аль к мирской жизни потянуло, старче?
— Эх, сыне, — вздохнул отшельник. — Мирская жизнь полна низменных влечений и пагубы. Никогда бы я не вышел из своего добровольного заточения. Только там я познал покой в душе и уразумел, в чем состоит бренное бытие. Ни в богатстве оно, ни во славе, а в единении с естеством и природой.
— Так и сидел бы в своей пещере, Евстафий.
— Сидел бы, сыне, но ныне в миру я должен быти, ибо привиделся мне сон о благоверном Сергии Радонежском. Когда тот изведал, что на Русь движутся вражеские полчища, то вышел из своего скита и со всем тщанием послужил своему отечеству. Мал я, дабы уподобиться Сергию, но оставаться в уединении боле не могу, ведая, как земля православная обагряется кровью. Понесу Божие слово супротив лютого иноверца.
— Благое дело, отче. Земной поклон тебе за это, — Анисим и впрямь низко поклонился отшельнику.
— Поищу пристанища в Ярославле.
— Чего искать, отче? И ране жил у меня, и ныне милости прошу. Места хватит. Дочерей своих я замуж выдал. Племянник же, почитай, у купца Светешникова обретается. Да вот ныне беда с ним приключилась. Пойдем в избу.
Евстафий глянул и покачал головой:
— Плох твой сыновец, Анисим.
— Плох. Неделю назад дворовые люди Светешникова привезли. Обнаружили его без памяти неподалеку от тына. Забирай, говорят, вся голова в крови. Кажись, помирает твой сродник.
— Кто ж его, бедолагу?
— И сам не ведаю, отче. Бродит одна мыслишка, но сумленье гложет. Кабы сыновец очухался. Я уж и знахарку приводил, но проку мало. Первушка, почитай, в рассудок и не приходил. Все про храмы бормочет, да про Васёнку, коя, знать, крепко поглянулась ему. Меня ж не признает. Норовил до лекаря воеводы достучаться, но тому-де недосуг. Жаль парня.
Евстафий прислонился ухом к груди Первушки, а затем произнес:
— Нутро крепкое. Сердце стучит, как молот о наковальню, а вот голову надо немешкотно пользовать. Надо бы за Волгу перебраться. Ведаю за рекой травы живительные.
— Челн всегда наготове, отче.
Добрую неделю поил Евстафий недужного пользительными настоями и отварами и подолгу молился перед киотом, прося у чудотворцев исцеления рабу Божию. Наконец, Первушка пришел в себя, молвив ослабшим голосом:
— Ты кто, старче?
— Слава тебе, Господи! — размашисто перекрестился Евстафий. — Жить будешь. Благодари Бога, что нутро у тебя крепкое. Дай-ка ему, Анисим, малость ушицы похлебать.
Через пару дней Первушка стал выходить на осеннее солнышко. Присаживался на бревно у повети и вдыхал полной грудью свежий животворящий воздух. Легкокрылый ветер лохматил его русые волосы. С высокой раскидистой березы падала наземь невесомая листва, выстилая землю мягким золотистым ковром.
Он был еще слаб, побаливала голова, но Евстафий подбадривал:
— Через седмицу в былую силу войдешь, и голова будет ясная. Божии травки лучше всякого искусного лекаря.
— И какими же травами недуг мой исцелял, старче? Или то дело потаенное?
— Всякое, что для пользы человека, сыне, не подлежит тайне. Горицветом, барвинкой да кипреем тебя пользовал. Сам когда-то травами спасался в своем лесном обиталище.
Анисим, чиня с работником Нелидкой бредень, молвил:
— Все о лиходеях мекаю. Ужель никого не упомнишь, Первушка?
— Сумеречно было, лиц не разобрать… А вот один голос, кажись, показался мне знакомым.
— Не из дворовых сотника Акима?
Анисиму сразу втемяшилось: на сыновца напали люди стрелецкого начальника. Больше некому: уж чересчур тот племянника невзлюбил, едва в железа не заковал. И чего Первушка со сватовством сунулся? Ведь упреждал же его: не будет проку, не нужны сотнику людишки из черни. Отступись! Вот и получил на орехи, едва Богу душу не отдал… От воеводы Борятинского приказчик наведывался. «Чего это печник свое дело забросил? Зазимье на носу». Пришлось недужного Первушку показать. Приказчик сулил обо всем воеводе доложить, дабы тот сыск учинил. Но никакого сыска по всему так и не было. Да и какой сыск, когда сотник с воеводой за одним столом разносолы вкушают? Рука руку моет.
Первушка на вопрос Анисима лишь плечами пожал.
— Темное дело.
…………………………………………………
Всполошились печники! Ни весть откуда взявшийся каменщик Надея Светешникова, вдруг отбил у них всякую работу. Никаких заказов! Людишки только и талдычат: «Печнику Первушке поклонимся. Он диковинные печи ставит и денег с бедняков мало берет». (О том, как Первушка чуть ли не задаром выложил печь одному рыбарю, заговорил весь Ярославль).
Печников зло проняло. Дело дошло до того, что собрались на сход, долго гомонили, но ничего толком не решили: Первушке печки ставить не запретишь, но и без работы оставаться нельзя. И не ведали они, чем бы дело закончилось, если бы один из печников не столкнулся со своим сродником Гришкой Каловским. Тот, не долго думая, произнес:
— Ведаю сего каменщика. В монастыре сталкивались. Худой человек, к ногтю его.
Злопамятный Гришка никак не мог забыть встречу с Первушкой в Спасо-Преображенской обители.
— Как это «к ногтю?» — не уразумел печник.
— Проучить надо, да так, чтобы про печки и думать запамятовал. Шмякнуть дубиной — и дело с концом.
— Чересчур, Гришка. Отроду не было, чтоб добрых мастеров дубинами колошматили. Не пойдут на это печники.
— А им и сказывать не надо, тогда никто не изведает.
— А тебе какой резон?
— Страсть не люблю задавак.
— А кто их любит, Гришка, — как-то расплывчато протянул печник. Он был из тех людей, которым дорогу лучше не переходить, а работник Светешникова перешел. Может, и в самом деле проучить этого каменщика?
— Дело нешуточное. Как бы в оплох не угодить? Чу, сей подмастерье у самого воеводы печь ставит.
— Комар носу не подточит.
За короткое время Гришка сбил ватажку из гулящих людей, коих немало оказалось за последнее время в Ярославле. Сказал им:
— Надо, робя, одному моему недругу тумаков надавать. Не обижу. По косушке на брата.
— По две бы, мил человек.
— Будет и по две.
— Хоть на артель пойдем!