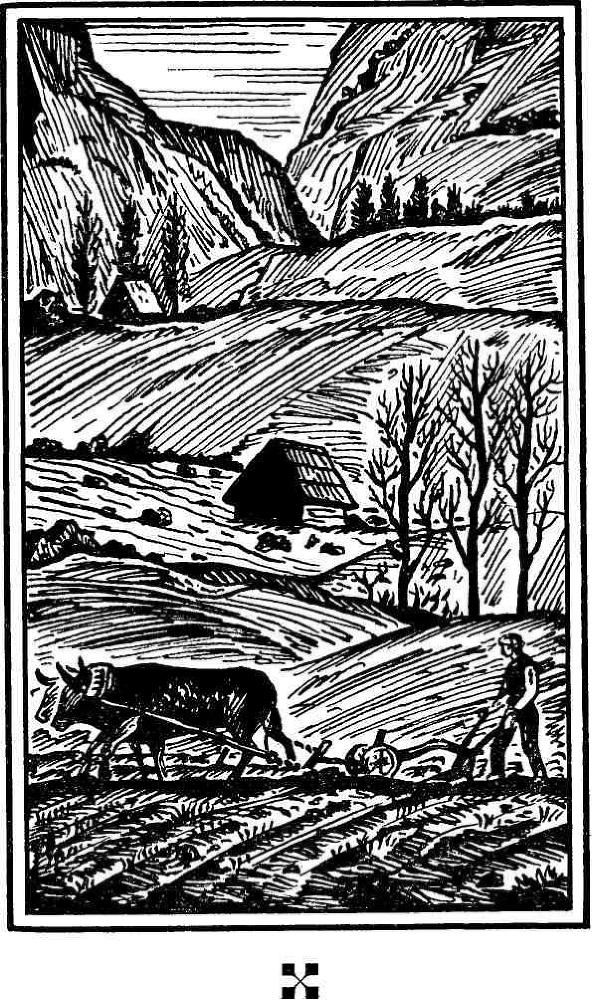
А год по всем приметам будет урожайный, и Раде с горделивым чувством глядит на свои хлеба.
— Бог даст, все будет хорошо!
…Но в одну из майских ночей побелела гора над селом, а в следующую ночь прояснилось: ударил мороз и разом уничтожил все посевы. Точно кипятком обваренная, поникла к земле пшеница, а кукуруза трепетала словно в страхе, как бы не появилось солнце. А когда оно поднялось, яркое, весеннее, то озарило жалкое, опустошенное, точно осенняя стерня, почерневшее поле. Радину надежду, гордость и радость унесла одна ясная ночь и озаренный весенним солнцем день.
Но Раде не пал духом: он принялся уже в ближайшие дни заново перепахивать землю для посева. Болела душа, разве это возможно: красное солнышко греет так славно, а земля вдруг целый год простоит бесплодной!
Он пашет, хоть и не в пору; лемех врезается в землю, и наливное семя ложится в борозду.
Однажды утром в поле пришла Маша. Давненько они не встречались, уж очень она соскучилась и, проходя мимо, свернула. Застала Раде задумчивым, озабоченным, с дольщиком и словом не перекинется; покуда тот шагает, тяжело налегая на плуг, Раде широко сеет щедрой рукой, крепко думая о чем-то.
Увидев Машу, Раде до того удивился, что так и застыл с семенами в руке.
— Завернула по пути, — смущенно сказала она, — поглядеть, что делаешь…
— Вот, попусту время трачу… — ответил Раде.
— Сеем не в пору, — подтвердил дольщик.
— Ладно, все же давай боронить!
Привязали борону и тут же, с этого края, начали.
Раде распластался на бороне, дольщик ткнул в бок подручного вола, и те тронулись. Раде лежит, вытянув руки и ноги, они волочатся по земле, и, кажется, он обнимает вспаханную ниву, чтобы прикрыть собой семена, прильнул к ней, словно хочет обнять и согреть ее своим телом; солнце палит ему спину.
— Погляди на бугая! — кивая на Раде, сказал дольщик Маше, которая шла с ними рядом.
Маша смутилась: угадал ее мысли, что ли?
С каким наслаждением легла бы она на борону рядом с Раде и целый день боронила бы с ним вместе под солнышком! И не может отвести от него глаз.
Вот подошли к другому краю, Раде поднялся с бороны, а дольщик завозился около волов.
Маша подошла к Раде.
— Ты куда пропал? — спросила она.
— Дела много, — ответил Раде и, взяв ком земли, раскрошил его в руке. — Сушь какая, бог знает, что станется с семенами? — и кинул землю в сторону.
— Взойдут, — сказала Маша, — с твоей легкой руки хоть на камне сей…
— Кто сказал? — спросил Раде и, улыбаясь, поглядел на ее талию. — Разве что-нибудь чувствуешь?
— Ничего… но не твоя в том вина… мой юнак!
Их беседу прервал дольщик, окликнувший Раде, и вдруг откуда-то появилась Божица, принесла Раде обед. Маша, взглянув на Раде, стала прощаться.
— Оставайся с нами, — предложил дольщик.
— Оставайся, — поддержала и Божица, — потом вместе пойдем…
Но Маша, отговорившись, что дома ждет муж, ушла.
Наступило воскресенье. Отец Вране после великой мессы произнес проповедь: он метал громы и молнии на паршивых овец своего стада и в подтверждение своих слов ссылался на перст божий, который ниспосылает безвременно снег и мороз, дабы предостеречь и направить грешников на путь истинный. Он хотел продолжать и вдруг, увидев в одном из углов церкви Раде рядом с Машей, прервал проповедь и бросился к ним.
— Скоты! Разве я не приказал мужчинам стоять отдельно от женщин? — закричал он и в гневе оттолкнул Раде в сторону.
— Не толкайся! — сказал Раде.
Но отец Вране продолжал напирать.
— Бугай этакий, я тебе рога обломаю! — твердил он в бешенстве.
Раде вспыхнул, кровь ударила ему в голову, туман застлал глаза; все же он сдержался и, скрипнув зубами, спокойно вышел из церкви.
Расходясь после великой мессы, прихожане шептались о Раде, но никто ни словом не попрекнул отца Вране: он в церкви хозяин и волен делать что хочет!
Отец Вране, вспоминая дома о случившемся в церкви, подумал, что лучше было бы ему сдержаться.
Утром Маша откровенно призналась ему, что больше всех на свете любит Раде и, не будь Раде, она, пожалуй, не стала бы его избегать. Поглаживая пухлую руку отца Вране, Маша заливалась бесстыжим смехом; от этого смеха отец Вране становился смелее, просыпалась надежда, что Маша раньше или позже полюбит его. Он знал, что Раде ее любовник, знал по сплетням, которые ходили по селу, и догадывался по ее исповеди.
И в тот день в церкви, исповедуя ее, он старался себя переломить и страдал нестерпимо. Сквозь разноцветные стекла вливались солнечные лучи; Маша стояла перед ним на коленях, он чувствовал ее близость и боролся с искушениями, боясь осквернить святость исповеди, но в то же время не мог взглянуть на нее, как смотрел на других женщин. Он был во власти беспорядочно налетевших, непосредственных чувств, и они оттесняли те, чужие, заученные, насильно ему навязанные и причинявшие столько страданий.
С затаенным любопытством отец Вране спросил Машу, грешила ли она с кем-нибудь, и когда молодая женщина призналась, что грешила, он забросал ее вопросами: какой он, этот мужчина, сильный, молодой? Часто ли она грешит с ним? Как именно и где? И выпытывал тысячу других подробностей. Маша отвечала, заикаясь от смущения, а ему этот допрос доставлял ни с чем не сравнимое наслаждение…
Но когда Вране стал убеждать ее в дальнейшем воздержаться от греха и пообещать, что она даже в мыслях не пожелает чужого мужа, молодая женщина опустила голову.
— Что задумалась, трудно придется? Не совладаешь?
— Да, трудно… — отозвалась Маша.
— Знаю, что трудно! Однако не думай, что одной тебе трудно… А знаешь ли ты, как приходится страдать другим! Перетерпи, и найдешь в этом утешение, гони от себя грешные мысли… кайся!.. Каешься ли ты?
— Каюсь, — пролепетала она, рыдая.
— Кайся, как и я каюсь!.. Терпи, как я терплю… Сокрушайся и помни: блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят. А все, что мы делаем ради спасения нашей души, ничтожная жертва по сравнению с жертвой нашего искупителя… И не греши, чадо, ни делом, ни помышлением!.. — Речь его становилась все ласковей, все нежнее… — Прости и меня, ежели когда-нибудь вводил тебя в искушение, как и господь бог через меня тебя прощает… Прости ты меня!
— Бог простит! — промолвила, рыдая, Маша и вышла из церкви.
Отец Вране со слезами на глазах глядел ей вслед, потом перекрестился и долго еще оставался в исповедальне, коленопреклоненно вознося молитвы.
…Раде был отходчив и незлопамятен. Он сразу догадался, в чем дело, к тому же и другие словно бы упрекали его: «Злится на тебя поп из-за Маши».
«Нет, какие эти служители господни, — думал Раде. — Кидаются на добрых людей, а сами распутничают. Болван! Словно Маша меня, вроде его, с ума свела… И чего она упирается, отчего не спутается с ним, ежели охота, могла бы уважить попа, уступчива она по натуре. А что у меня с Машей? Редко когда и вспомню…» Правда, бывает, потянет к ней, разыграются страсти, но утихают, если ее нет поблизости. Но бывает и так: распалится и подменит жену Машей — как-то так оно получалось… и в такие минуты Маша в самом деле казалась ему желаннее всех на свете. А иногда обе ему любы, и трудно отделить одну от другой.
Раде совсем было позабыл о нанесенном ему в церкви оскорблении. Но однажды в городе его позвал в лавку газда Ново, провел в контору и попросил рассказать, как было дело с отцом Вране. Выслушав рассказ, газда стал убеждать Раде подать на священника в суд.
— Жалуйся, если хочешь сохранить мою дружбу.
Раде всячески отнекивался, но это ни к чему не привело.
Газда сказал:
— Ты из почтенной семьи, а тебя этот вахлацкий поп осрамил перед всем народом!
— Трудно, господарь, с ним тягаться!.. Боюсь, взвалят на меня судебные издержки… и кто пойдет в свидетели против своего священника? — пытался убедить его Раде.