В Магадане он пришел на Портовую улицу и предстал перед изумленным Оле. Тот был один в квартире. На кухонном столе стояла батарея бутылок. Сам он был на вид сильно помят, на отечном лице лихорадочно блестели глаза.
— Здравствуй, Оле, — сказал Владимир Иванович. — Завтра вечерним рейсом вылетаем в бухту Провидения. Билеты я заказал.
— Хорошо, — кивнул Юле.
Владимир Иванович повернулся, чтобы уйти, но Оле поймал его за руку:
— Как там Надя?
— Она ждет тебя, — сухо ответил Владимир Иванович.
Он отнял руку и шагнул к двери.
Выходя, он слышал, как со вздохом облегчения Оле произнес:
— Как вы хорошо сделали, что приехали, Владимир Иванович!
Рейс был прямой — до бухты Провидения.
Погода стояла удивительно ясная. Оле сидел в левом крайнем кресле у окошка и не отрывал глаз от проплывающей внизу земли. Почти сразу же после Анадыря начались знакомые берега, а минут за двадцать до посадки Оле удалось рассмотреть даже домики Еппына. Он тронул за рукав сидящего рядом Владимира Ивановича и показал вниз.
Владимир Иванович с минуту поглядел, потом отвернулся.
За Еппыном проплыл Нунлигран, высокий мыс над селом Сиреники.
Они пообедали в столовой аэропорта и, допивая компот, услышали объявление по радио:
— Пассажирам, следующим рейсом в Еппын, объявляется посадка на вертолет! Посадка производится в сопровождении дежурной по аэровокзалу.
Полет до Еппына длился полчаса. Вертолет мчался над морским берегом. Оле смотрел на море и не видел ни одной льдинки: значит, ледовое поле целиком растаяло. И теперь до самой осени не будет снегопада. Наступило самое лучшее время короткого чукотского лета.
Вертолет обогнул мыс, и показались домики Еппына.
Хорошо просматривалась вертолетная площадка, ограниченная выкрашенными в красное железными бочками. Возле площадки стояли встречающие. Оле попытался найти среди них Надю, но в это время машина стала заходить на посадку, и в поле зрения оказалась лишь дальняя звероферма.
Медленно останавливался несущий винт вертолета. Оле видел в окошко лагуну со ржавыми бочками, зеленую траву на ее берегу, склон сопки, постепенно меняющий цвет от зеленого до бурого, с голубыми заплатками мха на камнях. Вода в лагуне мелко рябилась от слабого ветра. В отворенную дверь залетела комариная стая, заполнив кабину вертолета звоном.
Владимир Иванович подтолкнул Оле:
— Ну, иди.
Оле взял чемодан и шагнул вперед.
Надя стояла впереди встречающих, радостная, с широченной улыбкой во все детское личико. В волосах ее неумело завязанный бант, а в руке она держала несколько чуть увядших, со сникшими лепестками тундровых маков.
— Здравствуй, папа, — сказала она, шагнув вперед.
Оле выпустил из рук чемодан. Он не видел никого, кроме дочери, не слышал никаких других голосов, кроме ее голоса. Подхватив на руки Надю, он крепко прижал ее лицо к своей груди. Он чувствовал, что вот-вот расплачется, и не хотел, чтобы Надя видела его слезы.
— Как я рад тебя видеть, как рад, — повторял Оле, не отнимая от себя дочь: — Как ты выросла, молодец…
— Что ты, папа, — отвечала Надя, — прошло только полтора месяца… Вот ты переменился — отдохнул, похудел.
Наконец, успокоившись, Оле опустил на землю дочку, взял чемодан, и они зашагали вперед, высокий мужчина и маленькая девочка.
Оле держал в своей большой шершавой ладони, чуть смягчившейся за полуторамесячное безделье, крохотную теплую ладошку Нади, и это тепло достигало его сердца, волнуя и снова вызывая слезы.
— Я вела себя хорошо, — отчитывалась перед отцом Надя. — Мы ходили в походы в тундру, собирали коренья и зелень для зверофермы. Я старалась, и тебе обо мне ничего плохого не скажут… Каждый раз первая бежала к вертолету за твоими письмами. Летчики узнавали меня…
К дому вела короткая дорога по берегу моря, мимо балков, где хранилось охотничье снаряжение. Дальше путь шел мимо бани, складов Чукотторга, а там уже — вверх по зеленому берегу…
Но Надя вдруг резко повернула на крутой склон.
— Ты куда, Наденька? — спросил Оле.
— Мы пойдем здесь, папочка, — сказала Надя.
— Ну пойдем так, — быстро согласился Оле, послушно следуя за теплой настойчивой ладошкой в его грубой руке.
Они медленно поднимались по зеленому склону, шагая по торчащим из травы старым белым костям морских зверей: когда-то под этим бугром хранились запасы мяса.
— Тебе не тяжело, папочка? — спросила Надя.
— Нет, я же отдохнувший, — улыбнулся в ответ Оле, едва поспевая за дочкой.
Она вела его к зданию совхозной конторы. Оле подумал, что Наденька хочет, чтобы как можно больше народу увидело, что он приехал. Он послушно шагал, безмерно радуясь и размышляя о том, что самое прекрасное в любом путешествии это возвращение.
На пути возникла старая доска Почета со знакомыми, поблекшими от дождей и ветров фотографиями. Здесь Надя замедлила шаг, пошла совсем тихо, и вдруг…
Где-то Оле читал о том, что перед смертью в памяти человека, перед его мысленным взором в короткое мгновение проходит вся жизнь в полузабытых подробностях, в мельчайших деталях.
И в ту минуту, когда Оле увидел на доске Почета свою старую фотографию, на которой он был запечатлен в солдатской форме, перед ним в одно мгновение прошла вся его жизнь.
Но Оле не умер, он остался жить…

Дорога в Ленинград
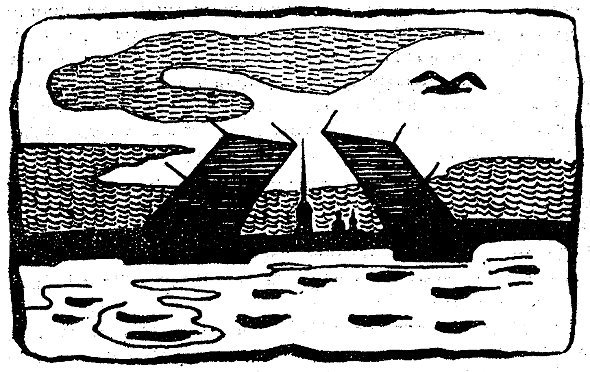
Листок бумаги в руках у Кайо трепетал, рвался, а он не видел ничего. Ни темных пятен освободившейся из-под снега тундры, ни людей, толпившихся вокруг, ни зеленого вертолета, прозванного канаельгином за его сходство с тонкохвостой рыбой-бычком.
Странно ослабели ноги, обмякло все тело, и ощущение было такое, словно он только что остановился после долгого, изнурительного бега по каменистым склонам, по качающимся кочкам в погоне за оленем.
— Худые вести? — участливо спросил пастух Пины.
— Маюнна выходит замуж, — тихо ответил Кайо и глотнул воздуху.
Пины с удивлением оглядел друга.
— Почему же не радуешься такой новости?..
Кайо ничего не ответил и медленно побрел прочь, оставив у вертолета толстую пачку газет и журналов.
Ноги медленно несли его к яранге. В голове было пусто и зябко. Перед глазами стояло лицо Маюнны — нежное, с мягкой улыбкой, с розовато-смуглой теплой кожей. Отец всегда целовал Маюнну по старому чукотскому обычаю. Нежно прикасался к щеке, вдыхая детский молочный запах. Этот запах оставался у Маюнны даже тогда, когда она уже кончила семилетку, купила флакон духов «Красная Москва», поехала учиться в медицинское училище. Несколько лет Маюнна жила вдали от родителей. Лишь раз она появилась в тундре на каникулах, одетая в модный брючный костюм из толстой ткани. Тогда показалось, что дочка стала чужой, изменилась. Она разговаривала новыми словами, у нее появились необычные движения, которым она научилась в другой жизни. Кайо растерянно стоял перед ней, не зная, как держать себя. Но Маюнна сама сделала шаг навстречу и привычно подставила щеку. Кайо втянул в себя воздух и сквозь густой запах незнакомых духов ощутил родную молочную теплоту. Слезы, заблестели в уголках его прищуренных глаз. Снова перед ним была родная Маюнна — выросшая в тундре, в мягких шкурах теплого полога.
Кайо остановился и посмотрел на листок бумаги, который бился в его пальцах.
Как сообщить новость жене?
Что она скажет?
Вход в ярангу был темен, словно пасть каменной пещеры. Оттуда тянуло дымом и теплом живого огня.
Кайо шагнул в чоттагин и увидел сидящую на корточках Иунэут. Она раздувала огонь под большим чайником: обычно летчики пили чай в их яранге.
Иунэут подняла глаза, скользнула взглядом по мужниной руке, увидела листок бумаги, и ее лицо изменилось.
— С Маюнной? — настороженно спросила она.