Тело больного рассечено. Ребра раздвинуты, и нож погружается в живые ткани. Руки хирурга, как обнаженные нервы. Неожиданные микроскопические препятствия он ощущает раньше, чем лезвие рассечет нитку живой ткани. И вот эти руки держат умирающее сердце…
Руки профессора и его помощников движутся в неуловимом ритме. Разрезана сердечная сорочка, точнее, мешочек, хранящий сердце…
Неожиданно в глубине предсердия хирург обнаружил тромб. Тромб — это плотный шаровидный сгусток крови. Он плавает в сердце, как морская мина. Стоит этому тромбу закрыть отверстие клапана или легочную вену, и мгновенная смерть неизбежна.
А сейчас руки доктора охватывают стенку предсердия круговым швом. Затем сердце рассекается. Палец хирурга проникает между стенкой сердца и тромбом. Палец, словно крючком, поддевает этот сгусток и выбрасывает из сердца. Вслед за этим разъяренная струя крови как бы с ненавистью выплевывает остатки тромба. Предсердие свободно.
Хирург снимает перчатку с правой руки.
Нет! Операция не кончена. Операция на самой высшей точке.
Рука обмыта особым раствором, и указательный палец профессора входит в. глубину человеческого сердца!..
Отверстие клапана, ведущего из предсердия в желудочек, Должно быть диаметром три с половиной сантиметра. Но у больного клапан сужен пороком, мертвой хваткой оцепили его спайки. Диаметр его около шести миллиметров. Предсердие не может протолкнуть нужное количество крови.
Указательный палец хирурга слегка расширяет отверстие, указывая путь крови.
Теперь Борис Васильевич вводит в сердце пилообразный нож, изогнутый по пальцу, и надсекает спайки. Нож извлекается, и палец раздвигает края клапана. Другая рука придерживает сердце.
— Давление?
— Восемьдесят, — слышится ответ.
Это значит, что. давление крови резко упало.
— Переливание, — приказывает профессор. И протягивает руку. Еще звучит его приказ, а в руке его уже выпрямилась тонкая трубка, увенчанная иглой.
— Кровь! — говорит он.
И мгновенно из отверстия иглы протянулась багряная нитка крови. Борис Васильевич вводит кровь в аорту. Давление с восьмидесяти поднимается до ста тридцати.
Только, что могло остановиться, останавливалось, но не остановилось сердце. И вот уже смертный рубеж позади!..
Беззвучные движения врачей кажутся сновидением. Они понимают друг друга по взгляду. Они, как слаженный организм, едины.
О, если бы миллионы людей увидели, как борются врачи за человеческое сердце!.. Наверное, многие с большим уважением стали бы относиться друг к другу. Смягчились бы самые резкие слова и заранее бы продумывались чрезмерно самоуверенные поступки. Было бы так, потому что страшно ранимо человеческое сердце…
Все еще на столе лежит больной. Его сердце в руках Петровского. Теперь оно будет работать…
Я понял, что можно создавать космические корабли, можно расщеплять таинственные атомы, можно воздвигать громадные здания на века. Но самое главное, чтобы ровно стучало маленькое и великое, бессмертное и невечное, еще одно спасенное сердце. И тогда полетят, полетят космические корабли, тогда расщепленные атомы откроют нам свою огромную мощь, тогда возведенные здания приютят миллионы судеб. Все это будет, если будет работать сердце.
Тише!.. Идет операция.
Идет борьба за человеческое сердце…

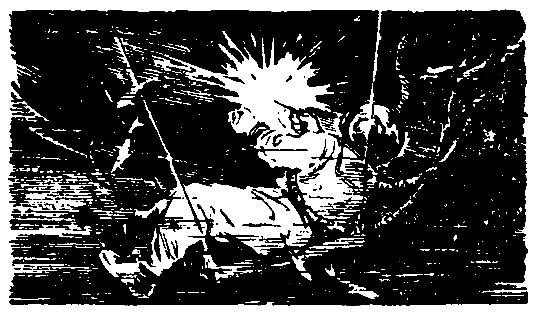
Подо льдом
Днем была ночь. Полярная ночь Арктики.
Перед смутными очертаниями безмолвных ледоколов едва различимыми точками возникли шесть человек. А ночь бушевала пургой, ночь гнала с полюса сухие, колючие и слепящие тучи снега, ночь стирала непреклонные контуры ледоколов, ломала мечи прожекторов, ночь хохотала, освистывала шестерых безумцев. И перед громадами ночи, пурги и ледоколов шесть человек становились все меньше. Они побелели от снега, словно побледнели перед грядущим. И думалось, что ночь и мороз, что вздыбленные торосы моря Лаптевых и ледоколы не только раздавят и сотрут в белый прах этих шестерых карликов, но просто и не заметят этого.
Ночь задыхалась от ярости, и тьма ее, прочеркнутая прожекторами, раскрывалась все черней и огромней, как утыканная клыками айсбергов свирепая пасть исполинской медведицы.
Но за этими шестью точками, как бы вмерзшими в ледяную пустыню, за этими шестью карликами, словно скованными страхом, за этими шестью человеками, убеленными пургой и опасностью, но не побледневшими перед ними, за этими людьми лежали сломленные ими преграды. И если бы у ночи, кроме гнева и жестокости, были бы еще глаза и память, ей бы открылось немало. За Александром Павловичем Мишиным стояли годы войны, годы потерь и побед, годы риска и напряжения: «Дорога жизни» на Ладожском озере, бессчетные подводные рейды в Финском заливе, на Балтике, на Севере и на Одере. Свыше пяти тысяч часов провел он под водой. И за одним из самых молодых — за Дорианом Котенко пылала скорбная и немеркнущая ленинградская эпопея, его сердце вобрало осколки снарядов, судеб и испытаний, обрушенных на великий и вечный Ленинград. За Николаем Михайловичем Губиным, за Василием Сокуром, за Александром Андреевым и за Виктором Мурашевым воспоминания раскрывали преодоленные глубины многих морей.
Они, эти шесть человек, услышав, что ледоколы «Капитан Белоусов» и «Капитан Воронин» повреждены, вызвались сами, оторвались от своего Ленинграда, который жалко оставить и на один час. Они знали, что такого подводного ремонта ледоколов в Арктике да еще полярной ночью не было в истории. И не за длинным рублем и не за славой, а просто по велению сердца, просто потому, что иначе нельзя, встали эти люди здесь, у бухты Тикси перед безмерностью ночи, пурги и льдов.
Так начался поединок,
Мишин, Андреев и Котенко вместе с матросами ледокола «Капитан Белоусов» натянули на месте работ брезентовую палатку. Бочка из-под бензина обрела трубу, топку и стала печкой. С удивительной прожорливостью она поглощала обломки ящиков, каменный уголь и темные куски отверделой нефти. Аппетит новоиспеченной печки значительно уступал ее теплу, так что, пока согревалась грудь, обращенная к топке, спина успевала оцепенеть. И в палатке, куцей и утлой, как рыбацкое суденышко, была установлена помпа, а двое матросов с ледокола качали воздух для того, кто спустится в воду. Шланги от помпы шли в сторонке, чтобы не касаться печки.
В который раз, но здесь в Тикси впервые, стройный и подтянутый Мишин начал одеваться перед спуском в море. На мускулистую грудь и руки, обрисованные тельняшкой, лег свитер из верблюжьей шерсти. Рейтузы, еще свитер, плотные ватные штаны, шубные, кожаные, обильно подбитые мехом чулки выше колен, шерстяные перчатки, шерстяная феска — все это преобразило Мишина. Но когда он облачился в прорезиненную тройную ткань водолазной рубахи, когда на его ногах воцарились тридцатишестикилограммовые свинцовые калоши, а на груди и спине пудовые, хотя и круглые, как медали, грузы, притянутые веревкой, когда наконец застекленный глобус скафандра увенчал эту глыбу ткани» свинца, железа и резины, тогда Мишина не стало. Стояло не то неповторимое железноголовое чудовище, весившее сто шестьдесят килограммов, не то посланец неведомой планеты, и лишь упрямый подбородок, утонувший в глубине скафандра, помогал угадать в этой глыбе человека. Нелегко двигаться в таком пятипудовом одеянии.
Тяжело ступая, водолаз с грушеобразной пятисотваттной лампой в руке подошел к проруби. Прорубь площадью в один квадратный метр была вырублена во льду перед самым носом ледокола. Она напоминала венец колодца» сложенного из белого, метровой толщины Мрамора.