Она стояла вполоборота ко мне и... крестилась. Не в шутку, а серьезно, неторопливо и спокойно, всеми пятью пальцами, слева направо. Перекрестившись, она рванулась со скалы вниз. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, вода ослепила меня жгучим зеленым блеском. И через секунду я увидел, как над зеленой гладью вновь появилась рыжая отчаянная голова нашей Аниты. Я поплыл к ней. Она не видела меня, она шумно отфыркивалась, высоко, как дельфин, выскакивала из воды, высекая белые, сверкающие искрами брызги. Вот она увидела меня, остановилась, лицо у нее сделалось радостное, приветливое, затем словно бы тень набежала на него, и улыбка стала не веселая, а какая-то вынужденная. Она поняла, что я видел, как она крестится... А может, сначала она улыбнулась по привычке, а вообще-то ей вовсе не хочется видеть меня. Во всяком случае, я не стал ее ни о чем спрашивать — с меня было достаточно, что она не разбилась. И, помахав ей рукой, я поплыл в другую сторону.
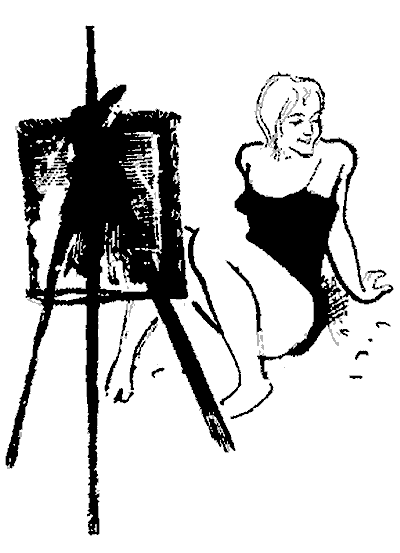
Через две или три минуты она догнала меня и сказала:
— Куда ты? Будем прыгать вниз... Со скалы.
— С этой скалы нельзя прыгать, — сказал я, — здесь никто не ныряет, кроме чокнутых.
Я постучал пальцем по лбу.
— О, это совсем маленькая скала. Я могу нырять с совсем большой скалы.
Но я больше не дал ей нырять, и вскоре мы вышли на берег. Здесь лежал ее мольберт, а также кисти, тюбики с краской.
— Я буду тебя писать, — сказала она.
Она усадила меня на камень и стала рисовать. Она рисовала, наверное, час, я уже не мог сидеть, как чурбан. У меня даже шею свело. Но я сидел, терпел. Хотелось увидеть свой портрет. Я пожалел, что здесь нет отца, пусть был бы двойной портрет. И она, словно прочитав мои мысли, сказала:
— Я бы хотела рисовать тебя с отцом. Отец и ты.
— Отец не любит сидеть, как истукан.
— О, ты устал, мальчик! Будем кончать сеанс.
Минут через пять она окончила свой сеанс, и я подошел к холсту и очень удивился. Там был я и не я; вернее, кто-то отдаленно похожий на меня, но, в общем, совершенно другой. Лицо у него было зеленое, как молодая трава, а глаза желтые, огромные, как фары... «Может, это только в наброске так, а в картине будет по-другому», — подумал я.
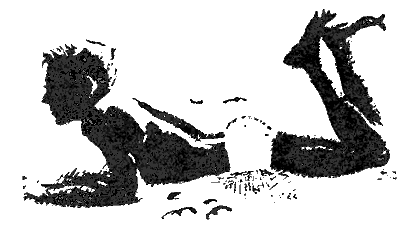
Мы еще немного полежали с ней на пляже, она все время что-то напевала, хулиганила, озорничала, кидала в меня галькой. Потом она проводила меня домой, отца еще не было, и мы немного посидели на нашей веранде, прохладно пахнущей сырым некрашеным деревом, — хозяйка мыла полы. Потом Анита вдруг сорвалась с места, сказала, что она больше не может ждать, что ей завтра уезжать и она совершенно не готова.
— На рассвете я буду уезжать, — сказала она. — Вы меня не можете провожать, потому что будете спать.
— Мы проводим вас обязательно! — воскликнул я.
— Нет, вы будете видеть третий сон.
Она соскочила со ступенек террасы, махнула мне рукой. На узенькой пыльной улочке мелькнул ее желто-красный широкий сарафан.
Вечером отец приехал из Новороссийска. Я рассказал ему о том, как пришел в район камней и заплыл, и как увидел Аниту, ныряющую со скалы, и как она крестилась.
— Она же антифашистка. Зачем она крестится? — удивился я. — Неужели она верит в бога?
— Бывает, что и антифашисты верят в бога, — сказал отец. — А бывает и так, что не верят ни в бога, ни в черта, а крестятся. К тому же наша Анита до шестнадцати лет воспитывалась в католическом монастыре.
— Откуда ты знаешь?
— Она однажды мне сказала об этом.
На рассвете отец разбудил меня, мы пошли провожать Аниту. Она отправлялась на катере в Новороссийск, оттуда — поездом в Москву. Катерок покачивался на воде, какие-то люди из Дома творчества, провожавшие ее, галдели и наливали в бумажные стаканчики вино и очень не подходили к этому сонному, рассветному морю, к длинному, скучному молу, к безлюдной пристани. Однако они кричали и махали руками, будто они были испанцами, а не Анита.
Впрочем, она тоже была чуть на взводе, а глаза у нее были воспаленные, точно она ночь не спала. Может, она просто всю ночь складывала вещи... Анита прощалась со всеми, все ее обнимали, целовали, какая-то из двух старух говорила: «Приезжайте, приезжайте», — будто Анита уезжала по соседству, а не в Москву, а оттуда еще неизвестно куда. Сонный матрос поигрывал швартовым канатом, намекая на то, что пора, но Анита все никак не могла распроститься со всеми.
Наконец она со всеми перецеловалась, остались только мы. Но с нами она не стала целоваться, хотя из всех мы были самые близкие ей. Она сначала было потянулась к отцу, а потом остановилась и протянула ему руку. Он улыбнулся ей наигранно-бодро, глаза у него были тоскливые. Когда он так наигранно-бодро улыбался, мне его всегда становилось почему-то жаль. Потом пришла моя очередь прощаться. Анита и мне протянула руку, и я приготовился крепко, по-мужски пожать ее. Но вдруг Анита притянула меня к себе, горячо дохнула на меня, и я почувствовал легкий запах вина. Она порывисто, сильно обняла меня и прошептала:
— Тебя я больше всех любила!
Я промолчал, не зная, что ей сказать.
— Храни тебя бог!
И она добавила еще что-то на протяжном незнакомом мне языке.
— Что вы сказали? — спросил я.
— Я тебя так назвала, как своего сына.
— У вас есть сын?
Она остро, быстро глянула на меня и сказала:
— У меня есть сын!
Я видел ее рыжие волосы, ее глаза, устремленные на меня, ее руки, уже отпустившие мои плечи и как-то странно неподвижные, я видел, как она вновь очнулась и снова заулыбалась, а матрос все хмуро смотрел на нее и помахивал концом каната.
Наконец она прыгнула на катерок, катерок качнулся, и матрос сдернул канат. Так я и не узнал больше ничего про ее сына.
Художники разошлись, покидали на землю свои картонные стаканчики, и когда мы с отцом уходили с пристани, то все время наступали на них, стаканчики лопались, из них, как сок из плодов, вытекали красные струйки вина. Мы шли по этим стаканчикам, по серой нагревающейся пристани, и все оборачивались в сторону моря, и нам казалось, что мы видим этот беленький катерок, идущий к Новороссийску.
— А ты знаешь, у нее, оказывается, есть сын, — сказал я. — Интересно, сколько ему лет?
— Нет у нее сына. Ее муж и сын погибли в Испании в тридцать шестом году.
С тех пор я так и не узнал, что стало с Анитой.
Потом отец уехал надолго, было как-то не до того, и я забыл про Аниту. Но однажды встретил ее.
Был жаркий летний вечер, я слонялся по бульварам от Никитских до Пушкинской и у памятника увидел Аниту. Видно, она ждала кого-то. Она была похудевшая и казалась гораздо более старой, чем там, в Геленджике. Лицо у нее было бледное, а рыжие волосы забраны в косынку. Она стояла, ждала, я неуверенно подошел к ней. Она скользнула по моему лицу глазами, взгляд у нее был отчужденный, неузнающий. Я хотел было уже отойти, как вдруг услышал ее голос:
— Серьежа!..
Я снова подошел к ней, заулыбался. Она же, напротив, смотрела на меня без улыбки. Глаза у нее были тревожные и как бы испуганные.
— Отец все там? — спросила она.
Я удивился. Мы ведь не виделись. Откуда же она знает, что он не в Москве?
— Да. Он в отъезде. В командировке.
— Да, да, — сказала она и вздохнула. — Командировка...
Она почему-то покачала головой.
К ней подошел рослый мужчина в белой рубашке, я толком не успел разглядеть его. Она ласково, но торопливо кивнула мне, и они быстро пошли по бульвару. Пройдя метров сорок, она обернулась и снова удивленно и печально покачала головой.
Глава 11
Я засыпал и просыпался, что-то раскачивало меня, было тепло, и я не понимал, что это. Берег в Геленджике, прибой... Когда я открывал глаза, приподнимался, то видел черную пустую комнату, очертания стола, табуреток, коптилки на окне. Наконец я встал и понял, что в комнате холодно, просто меня еще греет спирт. Я осмотрелся, увидел, как белеет безжизненно пустая отцовская кровать. Он еще не вернулся. Я посмотрел в темноте на часы. Половина четвертого. Так долго он еще никогда не задерживался. Он всегда ночевал дома. Хотелось есть. Но жратвы уже не было — не то, что сала, ни крошки хлеба. Я снова лег на свою раскладушку. Хотелось думать о чем-то приятном, о Геленджике, о море, об Аните. Но не выходило. Теперь я уже не мог заснуть.