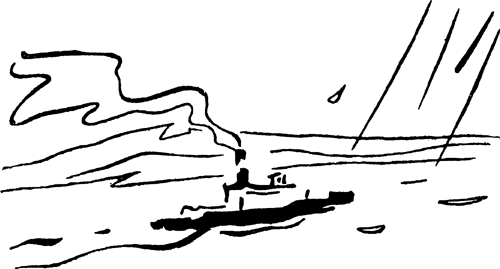— Понимаешь, мать, — Волнов прошел к жене в спальню, — я, кажется, преждевременно бью тревогу. Мне такое сказал сейчас Курденко, такое сказал…
Волнов сменил костюм на цветной халат, весело прошелся по ковру.
— Покажу, я еще покажу по-настоящему, на что способен Волнов, — с улыбкой ожесточенно говорил он. — Нет! Тогда — научно-исследовательский. Безотвальная вспашка. Хороший конек. Кандидатская. И пошли они все к черту. Три сотни рублей. Квартира. Машину куплю. Поедем семьей на Кавказ, на природу. Чем я не генерал? Похлеще Русакова, а?
— Успокойся, Петя, — сказала жена тревожно, — ты очень возбужден…
— Возбужден? — уже без смеха сказал Волнов; он подошел к трюмо, покапал духи в ладонь и надушил ими волосы. — Я возбужден? — переспросил Волнов. — Мне просто хорошо, меня осенило — я теперь знаю, что мне надо.
74
Остроухов ночь ютился в поле, в заброшенной риге. В этой же риге, в дальнем углу, под старой веялкой, раскопал обмотанный тряпкой обрез. Тряпка уже стала гнить и преть. Размотал тряпку, под лунным светом блеснула вороненная сталь.
Остроухов мечтал отомстить своим обидчикам.
Остатки ночи провел в трухлявой соломе, положив под голову обрез. Не спалось. То мыши затеяли возню, то эти писклявые причитания старухи Мартьяновой слышатся. А глаза — хоть вообще не закрывай: закроет глаза Остроухов, и сразу перед ним всплывает Русаков Степан — небритое, скуластое лицо, чуб казачий. И дырочка эта, что возле самого глаза. На виске запеклась маленькая струйка липкой крови.
Нет, лучше не закрывай глаза, Остроухов!
Закроет глаза — опять Степан. Вот он лежит навзничь. Откинута рука. На руке часы, что подарил ему командующий… И вдруг губы Степана зашевелились: «Ты что?..»
Холод насквозь сковывал тело. Остроухов вскакивал и долго бегал по риге, стараясь согреться.
На рассвете Остроухов, забросив в вещевой мешок свои немудренные пожитки и обогнув ригу, пошел куда глаза глядят…
Липкий снежок постепенно заносил одинокие следы, что цепочкой вились от старой, заброшенной риги.
75
Александровка давно погрузилась во тьму, и только Сергей сидит за письменным столом.
— Ты как сыч, — беопокойно говорит Надя, — иди сосни, Ведь Ивана встречать поедешь…
— Не забыл, поеду, — отозвался Сергей. — Ты сама спи.
…Вот они, думы. С тобою. Рядом. И от них никуда не уйти!
Колхоз в среднем получил неплохой урожай, Красное знамя завоевано, а дальше?
Вот это «дальше» больше всего и тревожило Русакова. Теперь было важно, какой получен урожай на каждом поле. Если хороший — то почему хороший? А если плохой, то тоже — почему? Чтобы получить надежно с каждого гектара, надо знать его, этот гектар!
Вот они, думы… Все это необходимо взвесить, подсчитать, и еще, еще раз подумать о предшественниках, севооборотах…
Даже Чернышев сегодня опешил, когда Русаков предложил взять на себя руководство тракторной бригадой.
— Эко хватил, парень! У тебя же только две ноги и два глаза — как же везде успеть и все увидеть?
— Ничего не поделаешь, Василий Иванович, назвался агрономом, отвечай на полную катушку.
Чернышев согласно кивал и все же почесывал затылок.
— А что скажет Волнов?
— Я ему звонил, и он, как ни странно, согласился.
Чернышев оживился. Но ему, видимо, не хотелось, чтобы Русаков заподозрил его в нерешительности.
— Волнов, Волнов! Это наше внутреннее дело, — пробасил председатель. — Меня эта мысль давно занимала, да все агронома подходящего не попадалось…
— Ох и маневры ваши, Василий Иванович!
— Что ты опять имеешь в виду?
— Если вы думаете, что все эти месяцы я не понимал, какие беспокойства доставлял вам, то напрасно. Большее скажу: временами вы были готовы избавиться от меня.
Чернышев опустил глаза и потеребил себя за ус, а когда снова посмотрел на Русакова, — глаза смеялись.
— Тоже мне сердцевед! Но не будем об этом. Умеешь читать в душах — читай. — И добавил, помолчав: — Если это на пользу делу.
— Но мысль взять под свою руку тракторную бригаду я вычитал не у вас, — добродушно съязвил Русаков.
— Пусть будет так! — сказал Чернышев и хлопнул по плечу Сергея. — Я не мелочен.
— Вот так бы всегда! — засмеялся Русаков.
Председатель сделал вид, что не понял намека и, откинувшись на спинку стула, заговорил тоном сочувствия:
— Тяжеленько будет тебе. Это, как пить дать. Но не напрасно, видно, говорят: кто везет, на того и накладывают.
— Во-первых, я не лошадь, а во-вторых — никто на меня не накладывает.
— Да ты что взбеленился, Сергей Павлович? Я ведь тебе в похвалу. Но ничего, мы подберем тебе хорошего помощника. Будем генералить вместе.
— Генералить, так генералить, — улыбнулся Русаков.
Чернышев задумчиво смотрел на Сергея и барабанил пальцами по столу.
— Только одно обидно. Урожай мы вырастили и спасли. Государство и колхозники в прибытке. Казалось бы, председателю и всю славу положено получить, а ведь на деле не так. На деле ее у тебя больше. В генералах-то ходишь ты.
— Стоит ли об этом думать, Василий Иванович! Если говорить по-настоящему, то главным генералом окажется колхозник.
— Так-то оно так. Но ведь не будь руки, и ложка в рот не попадет.
— И все же, если будет ложка и в ложке что-то, так или иначе попадет в рот. Значит, надо думать о новом урожае!
— Вот ты какой! — удивился Чернышев, — ну, прям философ!
На рассвете Сергей Русаков поехал на станцию встречать брата. Ожидалась свадьба. У Староверовых дым коромыслом. Катенька сама не своя — вот она, радость, сбылась.
Новую жизнь начинать тебе, Иван! Жизнь семейная, это тебе не перекати-поле… Станет ли тебе Катя помощником, другом на всю жизнь? А ты для нее опорой, отцом ее детей, и надежна ли твоя верность, способная продлить ее молодость на долгие годы?
А там не за горами диплом агронома. Жизнь, полная тревог, огорчений и радостей. Выдержишь ли ты ее, Иван? Сумеешь ли ты найти в ней свое счастье?
Моряку — море, летчику — небо, а агроному? Агроному — земля, вся земля…
— Земля, жизнь…
Было холодно, зябко, и братья вылезли из саней. Шли по смежной дороге по следам полозьев, и разговорам не было конца…
До весенней распутицы александровцы ездили прямо по Хопру. Накатанная дорога шла вдоль правого берега, возле кромки леса, защищенная от ветров и непогоды. Но стоило на льду появиться первым весенним болотцам, как ездить становилось опасно.
В этом году Хопер и зимой не раз покрывался болотцами и затеками, но дорога через реку держалась, и по всей лесковской округе тянулись обозы с зерном на александровскую мельницу.
Над Хопром нависла предутренняя тишина. Сугробы, завалившие правый берег, горели оранжевым пламенем под лучами восходящего солнца. Солнечное пламя по столетним дубам поднималось кверху и позолачивало белоснежные макушки деревьев. Красавцы дубы в белых маскировочных халатах застыли над Хопром, будто молчаливые часовые.
Хопер разбросал белые покрывала — на сотни километров вперед. И было как-то странно ощущать биение его сердца подо льдом. Затаился, набирая силы. А весной, в разлив, сломает лед и, вырвавшись на волю, станет большим, властным — разольется, разбушуется… А потом в жаркое лето начнет мелеть, менять русло, чтобы со следующей весны снова заиграть властной силой… Но как бы он ни менялся в разные времена года, — всегда в нем есть основное, глубинное течение. И в своем главном русле Хопер никогда не мелеет, всегда полноводен и силен.
1964–1968 гг.
САДЫЯ
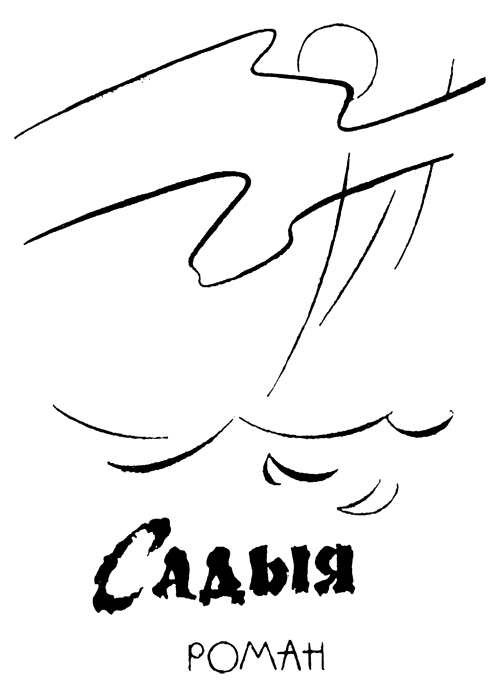
1