— Фима! Фима! — позвал кто-то.
— Постой здесь,— сказала девочка.— Меня зовут.
И она убежала, поставив Сережу у стенки. Сережа
поискал глазами елку и нашел ее: она действительно
была очень близко, и вся была так опутана бусами,
флажками и золотой паутиной, что за этими
украшениями совсем скрылась ее живая, лесная зелень. Местами
в золотой паутине, неяркие в свете солнечного дня,
горели разноцветные электрические лампочки.
«Интересно,— подумал Сережа,— из какого крана она поливала
себе голову? Не из того ли бака, что там у двери?..» И он
стал учиться мигать так, как мигал тот мальчик: закрыл
правый глаз, потом открыл его и закрыл левый. Сначала
дело шло медленно, потом пошло быстрее. Сережа с
увлечением мигал, стоя у стены.
Мигал он и тогда, когда классы выстроились парами
и началась самодеятельность — пение, танцы и чтение
стихов. Вдруг он услышал, что кто-то читает:
«Проказница Мартышка». Он перестал мигать и пошел через
комнату к маме.
— Я тебе что-то скажу,— сказал он.
— Что, Сережа?— спросила она, наклонившись к йему
и хмуря брови.
— Я тоже хочу это читать,— сказал он.— Я повторил.
— Мы с тобой опоздали,— сказала мама.— Нельзя
двоим читать одно и то же. В другой раз прочтешь.
«Для чего же я повторял?» — подумал Сережа.
Роздали подарки — мешочки со сластями. Стали играть
в игры. Сережа пытался поиграть тоже, но его очень
толкали; он ушел к своей стенке и занялся сластями.
Большой пряник с белой сахарной корочкой он остазил
для мамы.
Праздник кончился. Ребята разошлись. Мама одела
Сережу и повезла домой.
На саночках Сережа заснул. Проснулся, когда
въезжали в ворота.
— Ты меня все время везла? — спросил он.
— Да,— удивленно ответила мама.
— А Коростелев? — спросил он и не понял, почему
она засмеялась и поцеловала его.
На другой день все мальчики на Дальней улице
научились мигать и состязались в быстроте миганья.
— Дураки,— сказал Васька.— Кто вас научил?
— Это один мальчик в совхозной школе мне
показал,— ответил Сережа.— Я там был на елке.
— Да разве ж это так делается!—сказал Васька.—
Во, ребята, смотри! — и он замигал обоими глазами с
такой быстротой, что всем стало ясно: мальчику из
совхозной школы копейка цена по сравнению с Васькой.
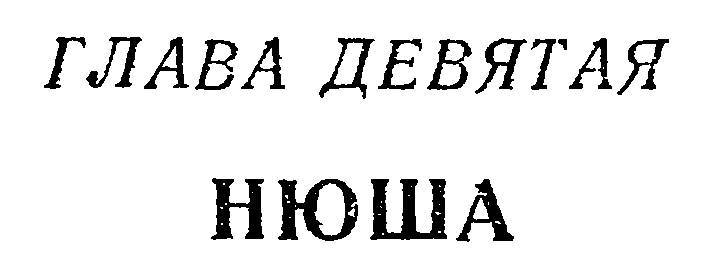
Отец Нюши, Степан Степаныч, был гармонист. Без
него не ладилось никакое веселье в красном уголке.
Вечерами далеко по «Ясному берегу» разносились звуки его
гармони. Люди, проходившие и проезжавшие темными,
полями, слышали эти звуки и говорили:
— Степан Степаныч играет.
В сорок втором году Степан Степаныч ушел на войну.
Гармонь осталась дома. Мать завернула ее в шелковый
платок и спрятала в сундук. Нюша приходила из
школы— мать была на работе (она поступила уборщицей в
контору),— Нюша доставала гармонь, садилась на край
открытого сундука и училась играть. Не разжимая губ,
напряженно сведя поднятые тоненькие брови, напевала
она какую-нибудь мелодию и старалась подобрать
аккомпанемент. Иногда получалось, иногда нет. Чаще
получалось.
Стрелка старых ходиков с розами на циферблате
подходила к трем. Нюша запирала гармонь в сундук и
клала ключ на место. Мать не потерпела бы, чтобы чьи-
нибудь руки прикасались к отцовской гармони.
Мать обожала отца. «Стёпушка», «Стёпушка» —
только и разговору слышали от нее люди в войну. Не
всегда она его так любила. Когда она была молода и
хороша собой, она больше любила других мужчин. Немало
нахлебался с нею горя Степан Степаныч. Но она рано
завяла: к тридцати пяти годам только и осталось от ее
красоты, что богатые косы в руку толщиной да
заманчиво вздернутый нос, про который, бывало, говорили
бабы, что против шуркиного нсса ни один парень
устоять не может.
Ее не уважали и звали пренебрежительно — Шурка.
И вот — вошла она в степенные годы, стала примерной
мужней женой и хлопотуньей-хозяйкой, и ничего дурного
за нею больше не замечалось, а по имени-отчеству все
равно никто не величал: так и осталась Шуркой.
Нюша пошла ни в мать, ни в отца — худая, смуглая,
тонкая кость, глубокие глазницы на узком лице... Летом
сорок второго года сна окончила семь классов и
поступила в совхоз.
— Потом доучусь, после войны,— сказала она своим
учителям, которые жалели, что она, такая способная, не
закончит десятилетки.— К нам эвакуированных коров
нагнали, люди уходят и уходят, кому-то работать надо.
Ох, как плохо ей было на первых порах! Не потому,
что работа тяжела: Нюша выросла среди трудовых
людей и знала, что легкой работы не бывает. Потому плохо,
что кругом все большие, а Нюша была маленькая,
пятнадцати не исполнилось. Большие всё умели, а она не
умела ничего. Эти плечистые женщины с могучими рука-
ми считали ее слабосильной, заморышем и удивлялись —
зачем она тут. Нюша страдала...
Хорошо Тане, нынешнему комсоргу. Она всего двумя
годами старше Нюши, а сложение! а походка! Ступает —
пол под нею гнется. Серьезность, солидность в голосе,
в выражении лица. С самого начала ей было уважение и
доверие: посылали ее на курсы, выдвинули в ветсанита-
ры. Как с ровней, обращались с нею большие, а Нюше
говорили:
— Ладно. Где тебе, дай я сделаю.
— О, да не путайся под ногами.
Сколько надо проглотить обид, сколько приложить
стараний, чтобы угодить этим большим, умелым, не верящим
в тебя!
Настасья Петровна первая оценила нюшиш усердие:
может быть, потому, что сама была тонкой кости, не
обладала могучим сложением и знала, что дело не в этом...
Настасья Петровна поговорила с директором (директор
был еще тот ленинградский, старенький), и он перевел
Нюшу в доярки.
Доярка — фигура большая! Весь совхоз глядит на
доярку. Она дает выполнение плана. Она дает совхозу
славу.
Нюша спала и во сне видела — дать совхозу славу.
Она жила в стране, где цена определяется человеку по
его труду. Где труд приравнен к подвигу и труженик —
к герою. Где героев знает и уважает весь народ.
И посмотрите, что получается: так кругом работают
люди, что просто хорошая работа за хорошую не за-
считывается, хорошей почитается только замечательная
работа.
Я хочу работать замечательно. Хочу, чтобы меня
уважали, чтобы сам Иосиф Виссарионович узнал о Нюше
Власовой, девчонке из дальнего совхоза. Дескать, есть
такая Нюша, тоже строит коммунизм, и не хуже других...
Я добьюсь! Не обижена ни разумом, ни силой, не
смотрите на меня как на последнюю...
...Отец вернулся. Из Кострова позвонил кто-то в
контору и сообщил, что гармонист Степан Степаныч
высадился с поезда и сидит на станции, дожидаясь
автобуса. Сказали Шурке. Она уронила веник, закружилась по
конторе, прижав ладони к щекам:
— Стёпушка... Стёпушка...
Ее отпустили домой. Вне себя она побежала по
избам с криком: «Стёпушка на станции, сегодня дома
будет, ой, не могу!» Когда Степан Степаныч явился, стол
был празднично убран, жена и дочь празднично одеты.
Он обнял их, спустил мешок с плеч,— светлые слезы
потекли по его небритому, запыленному лицу,— и сказал:
— Ну, здравствуйте, семья!
Минувшим летом Нюша вдруг поняла, что она
влюблена, влюблена без памяти.
В директора, Дмитрия Корнеевича.
Любовь была всевластная, жестокая, точь в точь, как
пишут в романах, и даже в сто раз сильней.