Вот здесь, в одной короткой цитате сконцентрирована вся психология может быть еще не каждого русского человека XVI века, но уж точно московского общества и, конечно же, московской власти. Вдумаемся в смысл того, о чем пишет исследователь. Создано единое, мощное государство и встает вопрос о том, как «лучшим образом распорядиться этой мощью?». Причем под этим вопросом однозначно понимается: на кого напасть и кого завоевать? Ни в какую другую сторону общественная мысль просто не работает. Даже не ставится на повестку дня вопрос о подъеме экономики, о благоустройстве городов, о прокладке дорог и возведении мостов через бесчисленные реки, повышении урожайности земли, совершенствовании орудий труда, развитии промышленности, наконец, улучшении быта людей и т.п. Обо всем этом самом насущном для человека и общества в целом не вспоминается даже пусть в совокупности с вопросами повышения обороноспособности, то есть со строительством крепостей и оборонительных линий, с усовершенствованием оружия и пр. Наконец, никто не задумывается о строительстве портов на имеющемся у России морском побережье, о закладке корабельных верфей, налаживании торгового мореплавания, о создании и развитии военного флота для обороны своих берегов. Ни о чем этом богатырю, имя которого — Московское государство, даже думать не хочется, потому как от всего этого отдает однообразной, скучной и во всех смыслах неинтересной жизнью, неизменно сопровождаемой непрерывной, тяжелой и кропотливой работой, а он (богатырь), как повествует нам историк, «парень крепкий, молодой», и его грезы уносят в иной, более романтический мир. Ученый намекает на то, что силушки у Московской державы было достаточно, а вот ума-то маловато, в том смысле, что она не знала, куда и как применить эту свою силушку. И тут же историк подсказывает ей, как лучше всего своей силушкой распорядиться. Оказывается нужно было собрать все людские ресурсы, от казацкой вольницы до служилых людей «в одну мощную армию» и двинуть ее… Впрочем, сам советчик не знает точно, в какую сторону ее лучше двинуть, но твердо уверен в одном, что куда-то двигать надо, ибо русскому богатырю необходимо разгуляться. Так что наш современный ученый в плане поисков путей развития молодого русского государства мыслит теми же категориями, что и его предок, живший несколькими сотнями лет ранее.
Тут хочется поправить современного историка тем, что его совет лишний, и что русское государство в XVI столетии в точности так и поступало, как ему подсказывает ученый из конца XX века. А вот то, что оно получало при этом «обидные удары от судьбы», наш отечественный современник списывает на «неопытность норовистого, нахрапистого богатыря» и нисколько не осуждает его принципиальную позицию. Богатырю нужно где-то разгуляться, и истина эта возражений не терпит. Завоевательные стремления Московского государства и через четыре столетия воспринимаются как безальтернативные. Для набравшего мощь государства нет другого пути развития, как вооруженная агрессия против соседей с целью захвата их территории. Драматизм нашей истории именно в том, что своей принципиальной позиции, сложившейся к началу XVI века и имевшей в своей основе присоединение сопредельных земель, Московское государство, равно как и все его правопреемники, не изменит и впоследствии.
История Русского государства соткана из непрерывной череды больших и малых событий, оказавших то или иное влияние на ход его развития. Крупными вехами в этой череде обозначены события, получившие название эпохальных. Они запомнились истории, как нечто грандиозное, с которыми мало что может сравниться по величию, и оставили свой след, явно выделяющийся среди других. Именно таким событием, несмотря на все попытки его затушевать, и стала Ливонская война. Кроме того что она в течение двадцати пяти лет ураганом бушевала над Московской державой, перетряхнув все, что было в ней содержимого, она на несколько поколений вперед предопределила характер развития и судьбу русского народа.
Своим видением этой войны, от ее причин до последствий, автор спешит поделиться с читателем.
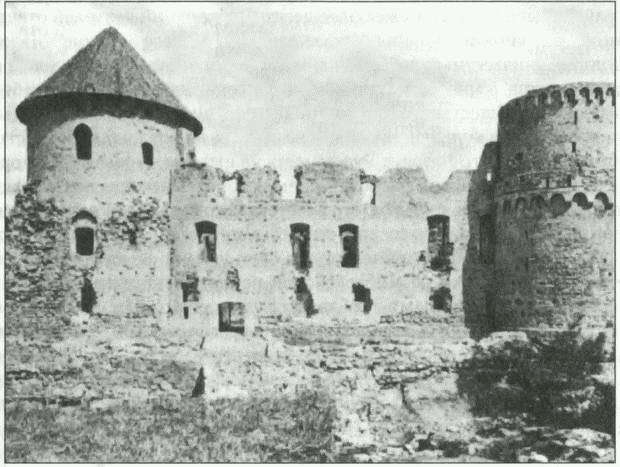
Глава 1.
Предыстория
История происхождения нашего государства уходит в глубину веков. В течение столетий на обширном пространстве Восточноевропейской равнины шел процесс, который впоследствии всех мастей историками будет трактоваться становлением
Российской державы. Вот уже более десятка поколений деятелей отечественной исторической науки рассказывает нам о массе больших и малых доподлинно известных событий, случившихся в далеком прошлом нашего отечества, о многих исторических персонажах, среди которых были незаурядные общественные и военные деятели, о подъемах и упадках экономической и культурной жизни на землях, на которых впоследствии и образуется то, что назовут Русским государством, но вся эта история, если провести аналогию с зарождением и появлением на свет человека, будет аналогом вынашиванию его в материнской утробе. А вот временем самого рождения нашего государства, если продолжить ту же аналогию, непосредственным появлением его на свет следует считать последнюю треть XV столетия, когда многовековой период вынашивания наконец завершился мучительными, но благополучными родами. Именно тогда на территории массы удельных княжеств образуется единое централизованное государство, правитель которого теперь зовется Государем Всея Руси. Точную дату рождения Московской державы назвать, безусловно, нельзя, ибо этот процесс растянулся на многие годы и занял чуть ли не все время великого княжения Ивана III.
Пожалуй, самой специфической особенностью процесса создания нового государства стало полное подчинение Московскому княжеству, послужившему в этом процессе ядром нового государственного образования, ранее независимых от него удельных земель, а отсюда быстрый рост территории владений московского князя. И как заметил по этому поводу К. Маркс, «изумленная Европа, в начале царствования Ивана (III — А.Ш.) едва замечавшая существование Московии, зажатой между татарами и литовцами, была огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах». При этом ничто так не послужило приросту территорий, как включение Иваном III в свои владения Новгородских и, можно с некоторыми оговорками сказать Псковских земель, хотя полное формальное вхождение в Московскую державу Псковских владений произойдет только при сыне Ивана III, но уже сейчас независимость Пскова оставалась чисто условной. Обширные пространства новгородско-псковских уделов превосходили своими размерами само Московское государство, каким оно было до присоединения Новгорода и Пскова, даже с учетом того, что под власть московского правителя к тому времени уже попали чуть ли не все другие удельные княжества. Собственно говоря, приведение великим князем под свою власть Новгородско-Псковской вечевой феодальной республики, этого последнего оплота независимости и сепаратизма на русских землях, и стало по сути дела последней вехой в создании Московской державы.
Но помимо того что вновь присоединенные земли на северо-западе более чем в два раза увеличивали территорию владений московского княжеского дома и, трудно сказать во сколько раз, преумножали его богатства, самым характерным следствием нового приобретения стало то, что Москва при этом получила новое для себя и далеко не дружелюбное соседство. До сих пор это соседство в полной мере давало о себе знать лишь жителям новгородских и псковских земель, и когда говорят о знакомстве и давних отношениях русских людей с соседними им прибалтийскими народами, в первую очередь с ливонскими немцами, то имеют в виду именно псковичей и новгородцев. Москва не имела непосредственного контакта с Ливонией, и новгородские владения были чем-то вроде санитарного кордона, отделявшего центральные области русских земель от западного соседа. Теперь Московское государство становится правопреемницей всей предыстории отношений многих поколений псковичей и новгородцев с их соседями и вынуждена будет продолжить их застарелую вражду теперь уже у своих новых северо-западных границ.