Да, соучастником, потому что тебе оказали доверие, даже хотели просить у тебя помощи. И пособником, так как ты будешь теперь бояться, что он, Мукосей, расскажет, если ты не будешь молчать…
Стой! Машина? Сюда?
Да, с большака на Углы сворачивает легковушка.
Адам.
Что ему сказать? Напросился, а что сказать? И зачем? Хотя он крепкий человек, хотя он и друг, горой стоявший за них в трудный час, хотя к нему и потянуло утром… Должно быть, сгоряча.
Он стоял за них, за них с Алесей. А что он сказал бы… что скажет теперь? И та ли это беда, которой надо делиться?..
Когда они, пешеход и машина, встретились на развилке перед Углами, Буховец, как всегда неутомимый, выкатился из «Победы» и деловито спросил:
— Ну, что там у тебя, Живень, снова приключилось? Говори.
Леня еще раз и окончательно понял, что говорить с Адамом, как он утром хотел, ему уже не хочется. Однако начал, как бы бичуя себя:
— Я, брат, ступил в глубокую грязь. Думал даже, что сам и не выберусь. Прости, друже, но я решил… не морочить тебе голову…
— Ну что ж, если б я знал…
— Адам, что ты? Нет! Я расскажу, я все тебе расскажу… Но попозже. Давай, поехали.
— Куда?
— А куда хочешь. Мне все равно.
— До смерти останешься чудаком!.. Садись вперед. Нет, давай вместе, на заднем. Михаль, домой!
Молчание. Потом сквозь гул мотора:
— Тебе, Живень, не бригадиром быть, а каким-нибудь, скажем, поэтом…
Снова молчание. На этот раз долгое.
«Ха! Додумался! — горько, однако уже с чуть заметным и неожиданным облегчением думает Леня. — Одно мне надо — не жалеть себя, не любоваться собою, не летать… не падать так низко!..»
1958–1959

Нижние Байдуны
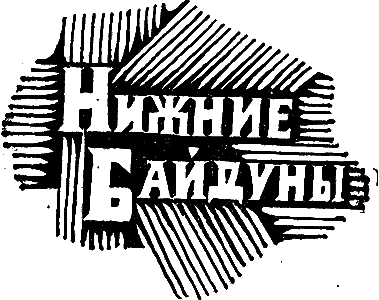
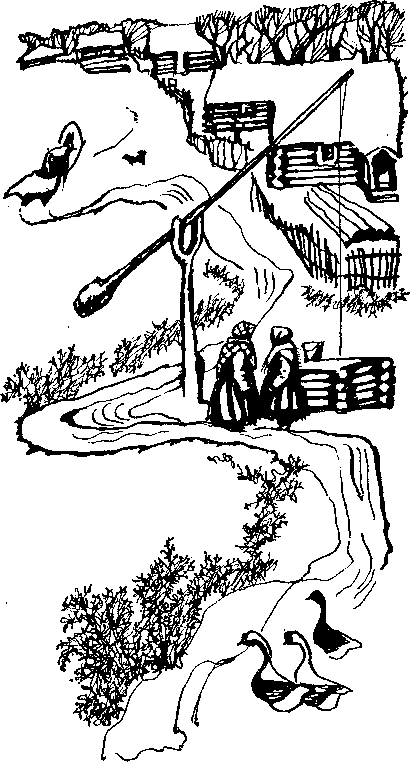

История
Как же, и у меня есть поворот с большака на проселок, в родную деревню. Даже не один, а два — с запада и с востока, будто символически. С запада я однажды вернулся домой после долгой разлуки; с востока, гостем, приезжаю довольно часто и почти всегда с волнением. Оно бывает то сильнее, то слабее, однако же в чем-то каждый раз одно, свое на всю жизнь.
Автомашины пока что не чувствуют на поворотах никакого возбуждения, а лошади когда-то, зачуяв дом, как и люди, волновались.
Гнедой у старого Качки был слепым, с большака его надо было поворачивать вожжой. А хозяин и сам не видел на правый. О них с конем говорили: один глаз на двух. Труднее сказать, как там они делили свое волнение.
Впрочем, в ту ночь, когда на свете гудела и подвывала белая вьюжная тьма, Захар Иванович Качко (он любил, чтобы так его звали) возвращался из корчмы пешком. Долго шел из местечка, нелегко, с заплетанием ног и соответствующим внутренним монологом. Наконец кое-как набрел на столб у поворота и, счастливо обняв его, прислонившись к студеному дереву обросшей щекой, тихо и ласково спросил:
— Чи тутэй весь Дольнэ Байдуны?[44]
Спросил на языке тогда официальном, потому что это из страны моего детства, из половины двадцатых западнобелорусских лет.
Сколько времени минуло, а вспоминаешь тот вопрос почти каждый раз, когда молчаливый столб на повороте приближается к тебе, когда на его единственном вытянутом деревянном рукаве снова проявляется надпись — имя нашей деревни, уже давно на языке родном.
Один из моих друзей, известный критик из братской республики, с которым мы встречаемся довольно редко и с удовольствием, советовал мне как-то, мягко, но и настойчиво, написать «два-три рассказа на историческую тему». Его авторитетная настойчивость внушала подозрение, что рассказы те нужны не столько нашей литературе, как мне самому, — для разрядки, что ли, чтобы немного отвлечь меня от излишне обнаженной лирики. Но я тогда только смеялся, не подозревая, что и такое может когда-нибудь случиться. «На историческую тему…» То, о чем я хочу сейчас говорить, уже тоже история. Полстолетия от вьюги в темную ночь; горный хребет войны, который пролег между тем временем и сегодняшним днем, крутой переход от узкой чересполосицы в индустриальный социализм…
Да лучше, видать, просто начнем, без всякой вступительной истории. С того, что часто и весело вспоминается, что хорошо видится — одно издалека, другое вблизи.
Подготовительный класс
Жена, проворная и довольно-таки сварливая тетка Юста, называла его по-деревенски: не Захар, а Захара, даже еще и по-своему, без «р» — Захава.
Утром, задав корм Гнедому, корове с телушкой и овечкам. Качка любил задержаться на гумне. Трясянки на день натрясти, подмести ток, походить немного между невысокими скирдами сена и соломы, почти беспрерывно бухая неотвязным кашлем.
Однако ж как раз тогда, когда человеку нужны были одиночество и тишина, баба выбегала на порог и тоном приказа бросала через двор:
— Захава, есть иди!
— Иду! — миролюбиво отзывался он. Но сразу не шел, а все еще понемногу бухал.
Тогда она снова выбегала из сеней.
— За-ха-ва! Есть иди, чтоб ты наелся чемевыцы, чтоб ты!
— Да иду!
Однако все еще копался.
В третий раз Юста автоматила долгой очередью:
— Есть иди, сказала! Что ты там возишься, чтоб тебя свиньи под плетнем возили, чтоб тебя! Что ты толчешься там, чтоб ты после смевти толкся козою, чтоб ты!..
Тогда уже хозяин показывался в черном проеме гуменных ворот.
— Распронаперекувыркутвою!.. Бу-ху, бу-ху!.. Тигра ты уссурийская! Я ж сказал, что иду!..
Юста исчезала в сенях, а он помаленьку закрывал гумно и не торопясь шел в хату.
Диалог требует пояснения.
Ругань тетки Юсты заключала в себе два сложных образа. Возить хозяина под плетнем свиньи могли не только пьяного — таким же мог быть и конец человека. Ходить после смерти козою — здесь уже был не только намек на колядный, рождественский вертеп, а какой-то даже буддизм с его переселением душ. Однако не скажешь, чтобы дядька Захара принимал все эти проклятия всерьез. Бабья ругань была на этот раз не очень и злобная, обычная.
Сидя у нас по-соседски с куделью, тетка Юста могла, например, рассказывать моей матери так:
— Завезала позавчева два гуся и говою своему: «Деви, Захава, певья, чтоб ты на стену двався, чтоб ты!..»
На стену люди «дрались», лезли, с большой беды. «Горбачи насобирали грибов, наварили, наелись, а потом всей семьей на стену лезли. Не дай боже!..» Такое, говорили, когда-то случилось.
Ну, а представлять, как это дядька Захара лезет на стену — с одним своим глазом, с седым ежиком и короткой седой бороденкой, — это было, конечно, весело. Мне, сорванцу.
Зла в той ругани, повторим, не таилось. Была даже поэзия, пускай себе грубая, однако ж и хлесткая. Я, тогда еще не коровий, а только свиной пастушок, мог насчитать сколько хочешь этих проклятий. «Что ты там долбишь, чтоб тебе ворон глаза выдолбал!», «Сколько ты сыпать будешь, чтоб тебе губы обсыпало!», «Чего ты сидишь, чтоб ты камнем сел!», «Почему ты не едешь, чтоб ты боком ездил!», «Распелись тут под окном, чтоб вы пели за хлеб!» — и так без конца. А у тетки Юсты еще и с повторением: «Чтоб ты!..»
Что касается «уссурийской тигры» и той многоступенчатой «перекувырки», так здесь уже выступает бывалость и важность дядьки Захары.
На царской службе он был старшим унтером какого-то особого железнодорожного батальона, «стоял» в каком-то для нас, маленьких слушателей, таинственном Никольск-Уссурийске, «стоял» и в еще более загадочном Китае, называл китайские города, среди которых больше всего один — Танку… Через несколько лет я случайно нашел в одной книге разъяснение многому из его рассказов. Старший унтер Качко принимал невольное, неосознанное участие в международном удушении ихэтуаньского («боксерского») восстания, и то его пьяное или только темное: «Берешь ходю за косичку и — нагайкой!» — было, по сути, очень несмешным… Однако в рассказах дядьки Захары, едва ли не сказочно отдаленных по месту и времени действия, слушатели ловили и воспринимали прежде всего смешное. Тем более, известно, дети, совсем невинная простота.
44
Здесь ли деревня Нижние Байдуны? (польск.)