Вернувшись в Париж в конце 1811 года, Бейль понял, что придворная жизнь для него невыносима, что ему чужды те «неблагородные формы счастья», дорога к которым проходит через апартаменты императрицы и салоны новой наполеоновской аристократии.
Бейль отдался умственной работе. Он засел за изучение труда доктора Кабаниса «Опыт изучения физического и нравственного существа человека».
Кабанис трактует о физиологическом происхождении чувственных ощущений, о влиянии климата, обстановки, возраста, болезней, сна на весь процесс психической жизни и, наоборот, о влиянии психической апперцепции, то есть всей совокупности предшествующих душевных состояний, на физическое проявление поведения, темперамента и инстинктов.
Желание применить это чисто материалистическое произведение к решению вопроса о существе многонациональных и принадлежащих к разным общественным группам огромных человеческих масс, слитых в так называемых больших армиях Наполеона, и заставило Бейля предпринять рискованное и трудное дело. Его начальник, интендант императорского двора Шампаньи, и слышать не хотел об откомандировании Бейля в армию.
Преодолев все препятствия, Бейль 23 июля 1812 года получил аудиенцию у Марии-Луизы и выехал в Россию с министерскими докладами и сотней писем в армию. Сестра Полина, провожавшая его, зашила ему в пояс тужурки столько крупных золотых луидоров, сколько могло поместиться.
В день отъезда он успел написать прощальное письмо.
«Сен-Клу, 23 июля 1812 г.
Случай, дорогой друг мой, представляет мне отличный повод к переписке. Сегодня в семь часов вечера я отправляюсь на берег Двины. Я явился сюда получить приказание Ее Величества Императрицы. Государыня меня удостоила беседой, в которой расспрашивала о пути, каким я намерен следовать, о продолжительности путешествия и пр. Выйдя от Ее Величества, я направился к Его Высочеству королю Римскому. Но он спал, и графиня де Монтескью только что сказала мне, что его невозможно видеть раньше трех часов. Мне придется таким образом ждать часов около двух. Это не особенно удобно в парадной форме и кружевах. К счастью, мне пришло на мысль, что мое звание инспектора даст мне, может быть, некоторый вес во дворце; я отрекомендовался, и мне открыли комнатку, никем не занимаемую теперь.
Как зелено и как спокойно прекрасное Сен-Клу!
Вот мой маршрут до Вильны: я поеду очень быстро, до Кенигсберга нарочный курьер поедет впереди меня. Но там милые последствия грабежа начинают давать себя знать. Около Коано они чувствуются вдвое более. Говорят, что в тех местах на пятидесяти милях расстояния не встретишь живого существа. (Думаю, что все это очень преувеличено, это парижские слухи, а этим сказано все относительно их нелепости.) Князь-канцлер пожелал мне вчера быть счастливее одного из моих товарищей, ехавшего от Парижа до Вильны двадцать восемь дней. Особенно трудно подвигаться в этих разграбленных пустынях, да еще в злосчастной маленькой венской колясочке, загруженной множеством разных посылок, — все, кто только мог, надавал их мне для передачи».
«Национальная война может превратиться в империалистскую и обратно. Пример: войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона»[33].
Понимал ли Бейль новый характер войн, которые вел Наполеон? Очевидно, в 1812 году для него не было разницы между войнами первого периода революции и новыми, захватническими наполеоновскими войнами.
На берегах Немана[34] впервые автор будущей «Истории живописи в Италии» собрал воедино свои записки и мысли, разбросанные на клочках бумаги, переписал их тщательно в сафьяновые тетради и сложил в баул. С этим грузом мыслей и замыслов 13 августа Бейль догоняет в Орше наступающую французскую армию, доказывая такой «подготовкой» к войне всю неосновательность той трактовки его характера, которую через несколько десятков лет преподнес европейскому читателю Стефан Цвейг.
Хотя итальянская поездка после жизни в Сен-Клу была похожа на карнавал, но и ее он использовал для сравнения итальянского характера с французским. Теперь перед Бейлем были другие объекты, но он остался тем же, чем решил сделаться еще в годы неудачного заговора Моро: исследователем человеческих характеров.
Когда Бейль присоединился к армии, угар первых побед начал уже рассеиваться.
Сожжение хлебных запасов, истребление жилищ и отравление колодцев скоро показали Наполеону, насколько он не понимал трудностей похода. Как и в Испании, он столкнулся с сопротивлением всего народа!
Боевые свойства русского солдата явились полной неожиданностью для Наполеона.
С самых первых страниц Ложье пишет:
«Полное отсутствие хлеба вынуждает солдат неумеренно потреблять мясо и мед, которые легче достать. Вода на биваках мутная и скверная, вареная рожь холодная и трудно перевариваемая пища; суровые ночи, — вот бедствия, которые мы переживаем, которых не предвидели, и в результате их — сопровождающая армию ужасающая дизентерия».
Самым неприятным для французов было то, что русская армия, избегая боя, уходит и уходит. Наполеон надеялся, что ее отступление не может длиться бесконечно: политически невозможно отдавать Москву без боя.
И бой состоялся! Бейль был участником Бородинского сражения. Он использовал впоследствии картины, открывшиеся перед ним, для описания в романе «Пармская обитель» битвы при Ватерлоо, которой он не видел.
ГЛАВА VII
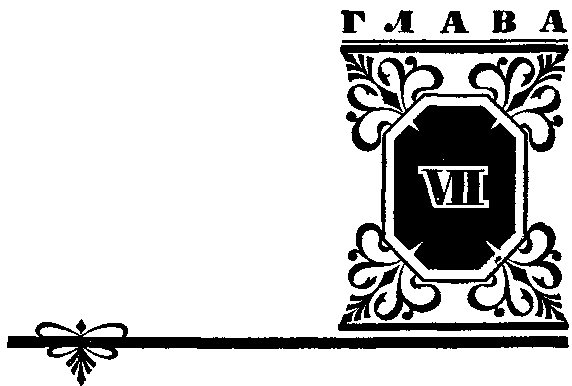
«Несколько человек из наших разведчиков успели взобраться еще на один холм. Новый мир — так буквально говорят они — открылся им. Прекрасная столица под лучами яркого солнца горела тысячами цветов — группы золоченых куполов, высокие колокольни, невиданные памятники. Обезумевшие от радости, хлопающие в ладоши люди кричат задыхаясь: «Москва, Москва!»
Лица осветились радостью. Солдаты преобразились. Одни обнимались и поднимали с благодарностью руки к небу, а другие плакали от радости. И отовсюду слышишь: «Наконец-то Москва, наконец-то Москва!»
Так описывает Ложье вступление французов в Москву.
История повествует, что их радость была весьма кратковременной!
Перед нами лежит книга, изданная в Москве в типографии Ф. Гиппиуса в 1803 году «с дозволения Московского Генерал-Губернатора». Она называется «История Тюссеня Лувертюра, предводителя негров, взбунтовавшихся в Сан-Доминго. С присовокуплением некоторых политических понятий о сей колонии и многих анекдотов, относящихся как к предводителю черных бунтовщиков, так и к агентам, которых Директория посылала в сию часть Нового Света в продолжение Революции». Книга представляет перевод первой половины пасквиля на предводителя восставших негров, написанного французским моряком Кузеном Давальонос, и содержит обличение французской революции и предостережение всем монархам от опасных увлечений французской философией: автор настаивает на необходимости рабовладения во всех странах и констатирует, что методом борьбы негров против Бонапарта было сожжение негрской столицы. (Мой экземпляр помечен библиотекой графа Ростопчина.)
Ложье в 13-й главе пишет:
«Москва. 15 сентября. В городе постоянно вспыхивают пожары, и уже ясно, что причина их не случайна. Множество схваченных на месте преступления поджигателей предстало перед судом Особой военной комиссии. Их показания собраны, от них добились признаний, и на основании этого составляются ноты, предназначающиеся для осведомления всей Европы. Выясняется, что поджигатели действовали по приказу Ростопчина и начальника полиции Ивашкина. Большинство арестованных оказываются агентами полиции, переодетыми казаками, арестантами, чиновниками и семинаристами. В назидание решают выставить их трупы, привязанные к столбам на перекрестках или к деревьям на бульварах, зрелище, которое не может нас веселить».