Гоша задумчиво смотрел на шахматную доску, но думал о другом.
— Папа, ты читал рассказ Чехова «Мальчики»? Это про Монтигомо Ястребиный Коготь.
— Читал когда-то. Давным-давно. А почему тебя это интересует?
— Нет. Я это просто так. Там изображен гимназист — страшно важный, мечтавший бежать в Америку и называющий себя Монтигомо Ястребиный Коготь. Как ты думаешь, папа, когда он стал взрослым, он стыдился этого?
— Не понимаю. Чего тут стыдиться? Это ведь романтическая мечта…
— Романтическая? А по-моему, просто глупость. Монтигомо Ястребиный Коготь. Смешно.
Тамарцев вышел из комнаты в глубокой задумчивости.
«„Мальчики“, — думал он, — надо бы перечитать этот чеховский рассказ. Хотя при чем он, этот Монтигомо? Давным-давно исчезли гимназисты, мечтавшие охотиться на бизонов. Чехов написал этот рассказ, если не ошибаюсь, в восьмидесятых годах. Очень уж восприимчив Геогобар. На все обращает внимание. Всему придает значение».
Зайдя в кабинет, заставленный книжными стеллажами, где почти все пространство от пола до потолка занимали книги, Тамарцев вспомнил, что у него нет Чехова. И Льва Толстого тоже у него нет. Геогобар брал читать Чехова и Толстого в школьной библиотеке.
Сев за свой большой и удобный письменный стол, Тамарцев устало закрыл глаза. В такие минуты в его сознании возникало далекое от его кабинета и даже от самой Земли неясное и чуждое бытие, приближалось и становилось более определенным, быстро ложась на бумагу и облекаясь в плоть живых и привычно звучащих слов.
Но в этот раз далекое и чуждое бытие не хотело появляться. Оно сопротивлялось усилиям тамарцевской фантазии. В сознании вдруг возникла давным-давно прочитанная и забытая фраза:
«Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут».
Тамарцев открыл усталые глаза и спросил себя:
— Откуда эта фраза? Кажется, из Чехова. Но как странно, что она вспомнилась. Я ведь читал Чехова в юности.
Тамарцев встал, прошелся по комнате и зачем-то заглянул в зеркало. Из зеркала глядело на него солидное лицо с острым носом и карими, слегка прищуренными глазами. В карих, не по возрасту молодо поблескивающих глазах играло земное и чуточку хитроватое выражение, иной раз смущавшее читателей и особенно юных читательниц, встречавшихся с фантастом и разочарованных тем, что он совсем не походил на своих героев.
Тамарцева очень удивило, что выражение его лица совсем не соответствовало его сегодняшнему настроению, тревожному и чуждому довольства собой. Зеркало словно говорило неправду.
В первом часу ночи Тамарцев подошел на цыпочках и заглянул в комнату сына. Он спал, забыв выключить свет. Его узкое отроческое лицо с закрытыми глазами казалось старше и взрослее, чем днем.
Какое-то новое, незнакомое и сильное чувство вдруг пронзило Тамарцева, остановившегося возле раскрытых дверей.
Тамарцев смотрел на спящего сына затаив дыхание, с изумленно и тревожно бьющимся сердцем, словно он смотрел из космоса, со стороны, впервые увидев человека и поняв всю глубину, неповторимость и красоту земного бытия.
Часть третья
В двух мирах
1
Поездка в Париж заняла всего пять дней. Пять дней — и он дома.
Потом много раз Тамарцев пытался вспомнить и старенький отель с низеньким душным номером, и ресторанчик недалеко от бульвара Капуцинов, где он обедал, и улицы, по которым ходил торопливо, с любопытством заглядывая в лица прохожих, останавливался у старинных зданий, зачем-то читая афиши бесчисленных театров. Ему не удалось побывать ни в одном.
Все спешило — толпа, машины на улицах, вагоны старенького метро, куда спускаешься по ступеням прямо с тротуара. Подчиняясь этому ритму, спешил он сам, вбирая впечатления парижской жизни.
Он не умел распределять свое время и, разумеется, сразу же обокрал самого себя, простояв слишком долго возле картин Дега в Люксембургском музее и возле какой-то античной статуи, а потом у него не хватило времени, чтобы задержаться там, где не следовало торопиться: на круто поднимающихся улицах Монмартра, на набережной Сены возле лотков знаменитых парижских букинистов, и возле дворца Пале-Рояль, и возле собора Парижской богоматери.
Жизнь скользила мимо него, как документальный фильм — прекрасный, но быстротечный.
Первые сутки прошли как мгновение. Он дал себе слово, что не будет спать. Ему нужно было еще просмотреть свой доклад, который он будет делать на Международном конгрессе физиологов и психиатров. Но он вернулся в отель усталый и уснул сразу, как только лег.
Тамарцев проснулся и минуты две или три лежал на спине, не поворачивая головы, видел обычные гостиничные стены, безличные и скучноватые. И умывальник обычный. И окно точно такое, как все окна, но за окном — Париж.
Тамарцев вскочил и начал одеваться. У него не оставалось времени на завтрак. В десять начиналось заседание секции психиатров, а на двенадцать назначен его доклад.
Он никак не ожидал, что на конгрессе физиологов и психиатров встретится со своим двоюродным братом Николаем Араповым.
Высокий, элегантно одетый господин (именно господин) сказал, играя красивым, звучным голосом:
— Алеша! Простите, Алексей Иваныч… — Он улыбнулся. — А помнишь, как мы с тобой чуть не подожгли конюшню с жеребцом Голубчиком?
Он улыбнулся еще обаятельнее. И на миг сквозь его теперешний облик западноевропейского господина, парижанина и модного философа проступило простодушное и милое Колино выражение.
— Ты не очень устал? Доклад твой я выслушал с интересом. Что ты так смотришь? Ага, понимаю, встретились два представителя двух враждующих социальных систем. Но ведь я не приглашаю к себе в гости. Мы можем побеседовать и на нейтральной территории. Например, в кафе. Не возражаешь?
На улице среди других машин стояла его длинная и роскошная «испано-сюиза». Сели. Он сам вел свою машину, вел лихо и еще более лихо затормозил возле кафе.
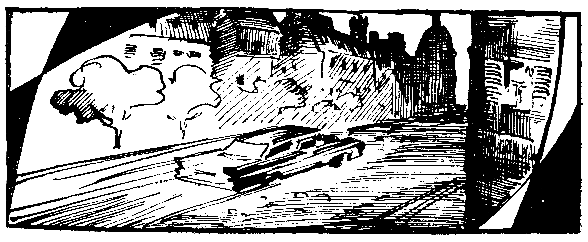
За рюмкой коньяка, ароматного, как ветка черемухи, и оставляющего на языке терпкий вкус, он прочел нараспев:
Лицо его стало вдохновенным:
Затем вдохновенное выражение сменилось другим, более соответствующим месту и обстоятельствам. Да и, собственно, чем ему было особенно вдохновляться? Тем ли, что он после сорокалетнего перерыва встретил родственника? А что такое родство? Вряд ли ведь можно говорить о родстве духовном… Это можно будет утверждать лишь после беседы, после откровенного разговора. Но он не знал, по какому руслу потечет их беседа.
Ах, в чем вообще можно быть уверенным в этой жизни!..
Арапов протянул двоюродному брату кожаный портсигар, туго набитый сигаретами, — жест скорее всего внешний, светски официальный, вряд ли способный сократить расстояние между ними.
— Куришь?
— Нет, не курю.
— А мне помнится, ты пытался курить, когда это тебе и мне было строжайше запрещено. Тогда ты вызвал гнев взрослых. И был наказан. Сейчас, когда я гляжу на тебя, мне кажется, что это было вчера.
— А мне не кажется.
— Но ты же материалист. Диалектик. Тебе не разрешено сомневаться в объективности нашего прошлого.
— А почему бы мне сомневаться в том, что несомненно?