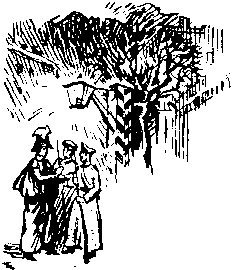
27 ноября у Бестужева был свободный от дежурства день. Позавтракав, он сидел в малиновом архалуке с желтыми кистями на диване у Рылеева. Кондратий Федорович пересказывал вчерашние известия, лежа в постели: ему нездоровилось. Звон шпор и громкий голос Якубовича, донесшиеся из передней, заставили его остановиться на полуслове. Якубович бежал по комнатам в шинели и шляпе, вытянув вперед правую руку, которой для скорости распахивал встречавшиеся на пути двери.
— Царь умер! — сказал он, останавливаясь на пороге и не опуская руки. — Это вы его вырвали у меня!
Затем страшно заскрежетал зубами и опрометью кинулся бежать назад в переднюю, крича по дороге:
— Во дворце присягают Константину, впрочем, это еще неверно, — говорят, по завещанию надобно присягать Николаю…
Через минуту его не было в квартире.
Бестужев вскочил бледный. Рылеев зарылся лицом в подушки. Слов не было ни у того, ни у другого.
Александр Александрович, прыгая через три ступеньки, поднялся к себе, живо сбросил архалук, натянул ботфорты и уже начал застегивать мундир, когда в комнату вошел Николай Александрович.
— Что делать? — спросил он.
— Я еду по полкам узнавать, кому присягают. Далее, право, не знаю.
Был час дня. В кабинете Рылеева появились Батенков с Торсоном. Гаврила Степаныч имел такой деловой вид, словно пришел продавать дом или имение.
— Любезный Кондратий Федорович, — сказал он, — вы уже знаете о происшествиях. Итак, представилась законность искать чего-либо для пользы отечества. Памятуя многие ваши о сем слова и речи, спрошу просто: есть у вас для действия средства?
Рылеев молчал. Батенков встал и начал прощаться
— Постойте, Гаврила Степаныч! — воскликнул Николай Александрович. — Постойте! Слушай, Рылеев. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от тебя, что смерть императора назначена обществом эпохою для начатия действий оного. Узнав о съезде во дворце и о замешательстве наследников престола, я бросился к тебе. Происшествие неожиданно, весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действий я вижу, что ты совершенно не знал об этом. Я вижу благоприятную минуту пропущенною, но не вижу общества, не вижу никакого начала к действию! Рылеев, ты поступил с нами иначе, нежели должно было.
Рылеев долго молчал, опершись локтями на колени и спрятав лицо между ладонями. Наконец сказал:
— Это обстоятельство дает нам явное понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру, между тем я поеду собрать слухи, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске.
Батенков взял шляпу.
— Еду присягать в церковь Военно-строительного училища, — выговорил он так деловито, как будто, не сторговав ничего в этом месте, решил за тем же самым обратиться в другое. — Итак, потерян случай, которому подобного не будет в целые пятьдесят лет. Если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы вместе и новому государю и новым законам. Теперь все пропало невозвратно. Еду присягать.
Вслед за Батенковым рассыпались все. Бестужев отправился в извозчичьей карете в Измайловский полк. Неподалеку от казарм ему стали попадаться офицеры. Он кричал через поднятое окно:
— Кому у вас присягают, господа?
Один отвечал — Константину, другой назвал Николая, нашелся третий, который ответил:
— Елизавете [46].
Им было все равно.
В половине восьмого Бестужев вошел к Рылееву измученный и злой. Кондратий Федорович успел побывать у Каховского, рассказал ему о происшествиях, обнимал, целовал, говорил со слезами:
— Ну, подозревай меня, действуй против меня, если начну что-нибудь во вред отечеству или что для своей выгоды…
Каховский отвечал объятиями. Ветер событий поднимал его над подозрениями и мелкой враждой, выносил на простор небывалых ожиданий, а слова Рылеева указывали путь.
К восьми часам у Рылеева собралось много народу. Приехали Николай Александрович, Оболенский, наконец Трубецкой. Старший Бестужев, как бы стыдясь того ожесточения против Рылеева, которое он проявил днем, был дружественно нежен с Кондратием Федоровичем и спокоен больше, чем всегда. Он поздравил собравшихся с тем, что произошло. Трудно знать, чем все кончится, но хорошо уже, что прежнего не будет. Многие из знакомых офицеров говорили Николаю Александровичу, что гвардейские солдаты с отменным удовольствием присягали цесаревичу Константину, толкуя о том, что жалованье в Варшаве нижним чинам платится серебром, что и здесь теперь, наверно, прибавят, а что года два службы уж, конечно, убавят. Оболенский сказал, что он сегодня спрашивал у кавалергардского корнета Александра Муравьева, брата Никиты, можно ли надеяться на кавалергардский полк для произведения бунта, по Муравьев отвечал, что намерение это просто безумно. При слове «бунт» Трубецкой сердито сморщился и сейчас же начал говорить. Кто хочет бунта? Никто. Речь идет о перевороте, вроде южно-европейских пронунциаменто 1820 года, а вовсе не о бунте. Все надо сделать без опасного участия народного, а войскам надлежит выступить в строю и под командой своих офицеров. Боже сохрани, если дисциплина будет нарушена. Секрет «легкости и удобности свершения революций» — в поддержании дисциплины; нужно благодетельное направление всем мерам, которые для введения нового порядка в государственном устройстве приниматься будут, и задача тайного общества в том, чтобы это направление обеспечить. Против мысли Трубецкого никто не возражал. Но для такого рода действий у общества сил не было; ни противиться восшествию на престол Константина, ни предпринять что-либо решительное общество не могло.
— О сем весьма пожалеть следует, — заметил Трубецкой докторально, — а для твердой монархической конституции желательно было бы иметь в России государыней императрицу Елизавету Алексеевну.
И эта мысль Трубецкого при всей своей неожиданности показалась очень веской и правильной: Константин — солдафон, деспот, заклятый враг всего, что хоть сколько-нибудь отзывается свободой мысли, а Елизавета… кто знает, что такое Елизавета?
Александр Бестужев слушал эти рассуждения и принимал решения, казавшиеся ему сегодня окончательными. Действительно, общество с его прозаическими спорами, ссорами, с сумасшедшим Каховским, с вечно кипящим без всякого толку Рылеевым, с величественным Трубецким — не нужно. Не сумев ничего сделать до сих пор, оно еще меньше сумеет сделать впоследствии. Прав был брат Николай, когда напал сегодня днем на Рылеева.
Бестужев начал высказывать свои соображения.
Он говорил ясно, просто, будто вынимал из кармана и раскладывал вынутое на столе. Не возражал никто. Трубецкой и Оболенский поднялись с кресел.
— Итак, действия общества на время прекращаются, — грустно выговорил Рылеев.
Оболенский прошептал:
— Надолго, а может быть, и навсегда отдаляется осуществление лучшей нашей мечты…
Оба князя уехали. Шел одиннадцатый час. Рылеев и братья Бестужевы долго сидели молча. Наконец Николай Александрович заговорил. То, что он говорил, логически вытекало из тех же самых причин, по которым только что было решено прекратить действия общества, но в то же время совершенно разнилось от этих печальных выводов. Он находил, что закрытие общества вовсе не означает, что у его членов связаны руки. Александр сам не заметил, как сказал бесценное слово: каждый, в ком жив дух общества, должен делать то, чего этот дух требует. Возможностей — сколько угодно, и поле для действия— самое обширное.
— Вот нас сейчас здесь трое, — говорил старший Бестужев, — мы не общество, но ведь мы не изменились оттого, что уехали от нас Трубецкой с Оболенским. Что мы могли бы предпринять сегодня же?
46
Вдова Александра I.