Мы подошли к амбулатории и увидели в окне Любу. Она сказала:
— Что это вы под окнами топчетесь, шли бы на реку или в лес. Да рубашки свои снимайте, вон как солнце печет.
Я сказал:
— Ничего, мы уж здесь посидим, в рубашках…
И сел на завалинку. А возле меня Коля Семихин. А с другой стороны Федяра. А возле Федяры Санька с Ванькой. Весь наш наличный состав.
А сверху Люба на подоконник облокотилась.
— Что это, — говорит, — вы такие квёлые?
Я сказал:
— Мы-то ничего…
— Может, щавеля объелись? Животы, может, болят?
Я сказал:
— Животы-то у нас не болят, и щавеля мы еще сегодня не ели, а вот тебе, Люба, нехорошо нас обманывать.
Люба круглые глаза сделала и за косынку схватилась.
— Ты это, Антошка, чего?
— А ничего!
— Когда это я вас обманывала?
Тут я вскочил.
— А кто за киномеханика Славку замуж собирается, а?.. Тишком от нас, значит? Вот так хорошо-о!.. В Кильково решила переехать, килькой, стала быть, захотела стать!.. А Митя как же?
— Ах вы, разбойники!.. — крикнула Люба и скрылась в комнате.
Коля Семихин покосился на крыльцо и сказал:
— Как бы с метелкой не выскочила…
Но Люба снова появилась в окне. Лицо у нее было красное, разгневанное, а руки она почему-то держала за спиной.
— Значит, я вас обманывала, предала вас?.. Судить меня пришли! В личную жизнь вмешиваться! Так вот вам, получайте!..
С этими словами она выхватила из-за спины клизму и давай нас поливать водой!
Мы отскочили от окна, но облить-то она все-таки успела. Больше всего меня. Я утерся и закричал:
— Теперь понятно, почему ты кильковских вперед нас осматривать захотела! Только они к тебе не придут!
Федяра крикнул:
— Хоть три года жди! Струсили твои кильки!
Люба прикусила губу и сказала:
— Ну и дураки. А вас я и вовсе осматривать не буду.
Коля сказал:
— Вот заболеем, так будешь!
— Сказала, не буду! Хоть умирайте тут, не буду я вас осматривать!
— И уколов делать не будешь?
— Не буду.
— Я согласен! — крикнул Федяра. — Больно хорошо!
Коля крикнул:
— А умрем, так тебе же и попадет!
— Не попадет, — сказала Люба.
— А вот попадет! — крикнул я. — Чего это, скажут, у Любы все равенские ребята померли? Что-то здесь не чисто.
— Подумаешь, не велика потеря…
— Да-а, не велика… А ну-ка, скажут, давайте ее в заключение!
Люба сказала:
— Меня кильковские спасут.
— Кильковские! Может, Тришка с Шуркой?
— Хотя бы и Тришка с Шуркой!
— Ха-ха-ха! — засмеялся я. — Тришка твой первый от нас подрапал! А Шурка твой и вовсе трус!
— А ты что на меня орешь? — вдруг спросила Люба.
— Я и не ору. А ты зачем, — говорю, — замуж тишком от Мити выходишь?
— Опять за свое? Так вот тебе, вот!
Люба схватила ведро и окатила меня водой.
— Ну, хорошо, гляди же! — крикнул я. — Тебе это так не пройдет!
— Еще и грозится, бесстыдник, — сказала Люба. Она показала нам язык и ушла в комнату.
Федяра сказал:
— А вот я сейчас ей муравьев подпущу!
И вынул из кармана коробочку. У Федяры всегда с собой какая-нибудь пакость. Он приоткрыл коробочку и бросил ее в окно.
За нашей деревней Равенкой
За нашей деревней Равенкой, если идти по реке вниз по течению, есть Юрский овраг. Он весь зарос ольшаником и малиной. Туда дядя Леша, Саньки с Ванькой отец, стадо наше равенское гоняет. А на другом берегу кильковский пастух пасет.
Кильковский пастух по утрам кнутом щелкает. Вот хозяйки и выгоняют скотину. А наш пастух, дядя Леша, на заре играет в рожок. Встанет он посреди деревни и заиграет сгонную:
«На заре да на зорьки-и-и и эх да па-а-а сыро-о-ой тра-а эх да тра-а-авушки-и!..»
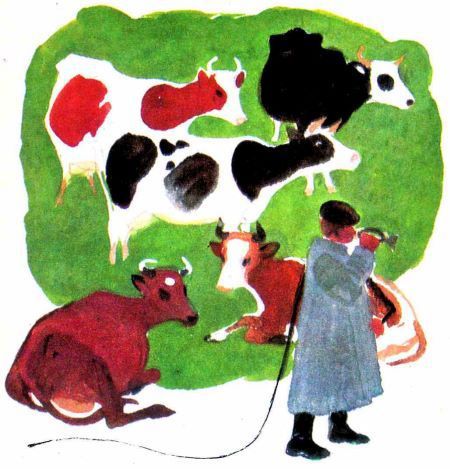
Я, бывает, от этой его игры просыпаюсь. Тихо, светло в деревне, только рожок заливается да птицы в вязах шебуршат.
Гонят пастухи скотину — один по левому, другой по правому берегу. Покрикивают, посвистывают, будто незнакомы, друг на друга и не глядят.
Потом дядя Леша на солнышко взглянет, сумку поправит и крикнет:
— Максим Данилыч!
А с того берега:
— Эй!
— Покурим, что ли?
— Покурим, Лексей, покурим. Ты чего нынче куришь? Все сигареты? А я сигареты не могу, я все больше «Прибой».
Сядут два пастуха друг против друга и беседуют. Максим Данилыч старый уже, как закурит, так и кашляет.
— Чего это, — говорит, — кхы-кхы, Леха, все дожжа нет? Трава горит начисто, не будет нынче покосу…
А с нашего берега дядя Лексей отвечает:
— Будет скоро дождь, вон радио передает.
— А откуда ему знать, твоему радиву? Что они там, в столице сидят, так им видать разве, какая тучка идет к нам в Кильково? Или, допустим, в Брехово? Радиво ведь не бог.
— А бог чего знает?
— Да бог-от знал, да тоже нынче все перезабыл. А я вот думаю, Леха, нет в нашей земле в настоящее время притяжения, вот нет и дожжа. А было бы притяжение, так дожжик бы — кхы-кхы! — он бы и был.
Долгий идет у них разговор, с одного на другое перелетает, я с пастухами сколько раз сидел.
В обед дядя Леша пригоняет стадо ближе к деревне, на стоянку. И сигнал подает Саньке с Витькой, напористый такой, звонкий:
«Ки-ри-ла! Ки-ри-ла!»
Идите, мол, мне на подмену, пообедать надо да по хозяйству кое-что справить. «Ки-ри-ла!»
Мы все ему на подмену идем.
А кильковский пастух на обед не ходит.
Мы говорим:
— Дедка, ты почему на обед не ходишь?
А он отвечает:
— Аппетиту у мене, дети, нет.
Старый Максим Данилыч, мореный, уж, наверно, последний год пасет.
Лежат коровы полусонные, отдыхают, ждут своих хозяек. А бычок один — Фомушка — никогда не ляжет, все бы ему резвиться, овец пугать. Мы когда приходим, он к нам бежит вприпрыжку, чуть с ног не сбивает. У Саньки для него хлеб припасен, он его кормит и приговаривает:
— Фома ты, Фома, нет в тебе ума…
Санька лучше всех знает, как со стадом управляться, у него ни одна корова со стоянки не уйдет.
Мы с Фомушкой играем, играем до устали, а потом Санька скажет:
— Да полно, Фома, бегать-то. Ты поешь, поешь.
Хорошо на стоянке, вот слепни только надоедают.
Мы кричим через реку:
— Дедка, отчего же столько слепней?
— Слепней? Слепень тоже скотина нужная, — отвечает Максим Данилыч. — Что слепень, что комар — имеют значение. Они воздух в полете своем рассекают, а не станут летать, то воздуху застойному быть.
Может, это и так, а зачем же кусаться? Пока сидим на стоянке, я их, окаянных, штук двадцать поймаю. Со слепнем вот что надо делать: в глаза ему поплевать и в пыль опустить. А после подбросить.
Такой слепень за реку почему-то летит.
Заиграл дядя Лексей
Заиграл дядя Лексей, мы и побежали.
Прибегаем на стоянку, а на кильковском берегу хозяйки с подойниками собрались. Сколько коров, столько и хозяек. Чего это они всем скопом, никогда прежде такого не бывало.
Шурки Шарова мать говорит:
— Еще и нынче допасет ли до холодов. Допасешь ли, Максим Данилыч?
— До холодов, може, и допасу, — отвечает кильковский пастух, — а на другой год, кхы-кхы, мене уже не хватит, у мене ведь, бабы, рвадикулит.
— Так, так! — говорит мать Шурки Шарова. — Кончается наш Максим Данилыч. Слышь, Лексей, к чему клоним, ты уж приходи на другой год наше стадо пасти.
Кильковские хозяйки зашумели.
— Приходи, Лексей, не обидим!..
— У нас стадо хорошее, большое, не то что равенское, столько да еще полстолько будешь получать!
Максим Данилыч, растерянный, стоит среди них, будто его заживо хоронят.
— А чего, — говорит, — Леха, и впрямь, иди…
— Подумать надо, — говорит дядя Леша.
— А уж как заиграешь ты на дуде, — сладким голосом говорит мать Шурки Шарова, — уж как заиграешь…