Эдельвейсы растут на скалах
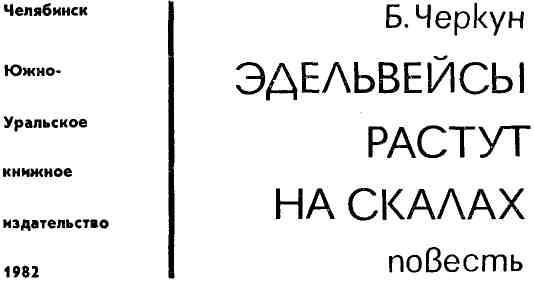
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1
Я сижу перед большим зеркалом, висящим над раковиной умывальника, бреюсь. Из зеркала на меня смотрит чужое толстое лицо с заплывшими глазками. Шея, недавно такая сильная, тренированная, утопает в тройном подбородке… Я никак не могу привыкнуть к этому — такому чужому — своему лицу… А как Дина воспринимает мою метаморфозу?.. Если уж сам себе… то ей и подавно я должен казаться чужим… Не повезло ей со мной. Ей больше не повезло. Болезнь сама по себе — это полбеды. Не я первый, не я последний. И мы еще посмотрим, кто — кого!.. А вот перед нею постоянно чувствую себя в чем-то виноватым, будто подвел… Выходила-то она за меня за здорового…
Сверкнув отраженным окном, бесшумно отворяется застекленная дверь, и на пороге появляется Ариан Павлович. Прислоняется плечом к косяку, складывает на груди руки и с минуту молчит. Я выжидающе смотрю на него, держа безопасную бритву у намыленной щеки. Ариан Павлович высокий, лобастый, лицо смуглое, с поджатыми губами.
— Овчаров, как думаешь, что лучше, рентгенотерапия или операция? — вдруг спрашивает хирург, мягко произнося шипящие.
Ничего не скажешь, оригинальный вопрос. Как по форме, так и по содержанию. Я совсем по-другому представлял себе ритуал сообщения больному о предстоящей операции, думал, это делается с подходом, с тысячью ухищрений. А оказалось так просто!
Отвечаю так, как уже давно решил про себя:
— Думаю, операция.
Кладу бритву на умывальник.
— И я так думаю, — соглашается Ариан Павлович, будто не он меня, а я должен его оперировать. Хирург все больше нравится мне.
— А когда?
— В понедельник, — говорит он и собирается уходить.
— С одной стороны будете оперировать или с двух? — Я настроился на операцию, понимаю, что от нее никуда не денешься. Но два раза ложиться на стол… Лучше уж — сразу!
— Думаю, с двух. За раз — два раз, как говорят у нас в Чувашии, — говорит доктор и уходит.
Я заканчиваю бритье и ложусь. Вот и все. Сделают с двух сторон, и через месяц-полтора буду уже дома. У меня снова будет мое лицо. И для нее перестану быть чужим. Все снова встанет на свои места! Другим же помогла операция.
А все началось еще на заставе: стало полнеть лицо, повысилось давление. Врачи сказали, что с таким давлением на границе оставаться нельзя: нужен режим, спокойная обстановка. Вскоре и приказ пришел: уволить в запас.
Но вспоминается почему-то не прощание с заставой, а первая стажировка на границе, где все для меня было впервые: настоящая застава, пограничный столб — на самом краешке нашей земли, боевая, а не учебная тревога.
…Подняли ночью. Старшим «тревожной» группы начальник заставы назначил меня. Стажировка заканчивалась, к этому времени я уже хорошо знал особенности участка.
…На галопе выносимся из ворот заставы и мчимся на правый фланг. Над нашими головами бушует гроза. Одна за другой сверкают близкие молнии, высвечивая на мгновенье деревья, потоки воды, повисшие в воздухе, лошадей, замерших в стремительном порыве. Припавшие к луке всадники в брезентовых плащах с островерхими капюшонами в свете молний похожи на воинов грозного Тимура. Почти не переставая, гремит гром. Отпустив поводья, мы доверились умным животным: кони мчатся по дозорной тропе, разбрызгивая воду, скользят на спусках, рывками выносят на крутые подъемы, от копыт далеко назад летят шматки грязи…
Из ущелья наряд доложил на заставу, что во многих местах размыло контрольно-следовую полосу. Вот начальник заставы и послал туда меня с тремя пограничниками, чтобы надежно перекрыть самый уязвимый участок.
…Спускаемся в ущелье. Вдруг строгий окрик:
— Стой! Пропуск!
Отвечаю. Спрашиваю отзыв.
Подходит старший наряда, докладывает обстановку. Младший стоит за деревом, метрах в пятнадцати. По дну ущелья уже шумит поток.
Двоих прибывших со мной пограничников и прежний наряд решаю оставить на этой стороне, а с одним солдатом — переправиться через поток.
Освещаю следовым фонарем реку. Ширина шагов десять. Мутная вода бурлит, несясь под уклон, кипит в камнях, разлетается брызгами. Представляю, во что она превратилась там, далеко внизу!..
— Может, не надо? — предостерегает невысокий солдат первого года службы — он остается на этой стороне.
Молча трогаю шпорой коня. Начальник заставы надеется, что все ущелье будет перекрыто. Надеется на меня, Макара Овчарова.
Конь ступил передними ногами в воду и пугливо захрапел, заплясал на месте, приседая на задние ноги. Я потуже собираю поводья, даю под бока шпорами, и конь медленно, вздрагивая, входит в воду. Чувствую, как под седлом напряглись все мышцы животного, оно осторожно нащупывает копытами грунт. Вода упруго бьется коню выше колен. Я пришпориваю его, освещая путь фонарем, и вполголоса твержу сквозь зубы: «Впер-ред! Ну, впер-р-ред!». Лошадь моего напарника идет за ведущим смелее. Вдруг конь подо мной оступился, теряя равновесие, — вода сразу хлестнула по сапогу… В моем воображении вспыхивает картина: через мгновение поток опрокидывает меня с конем и несет вниз, ворочая и швыряя о камни… Я сразу отдаю поводья, вонзаю в напруженные бока шпоры, и конь, напрягая все силы, делает рывок, другой — и падает, сбитый потоком, ошалело барахтаясь в воде. Я вылетаю из седла и плюхаюсь на мелководье, автомат больно бьет в грудь. Но поводьев не выпускаю — они зажаты в судорожно сжатом кулаке. Быстро вскакиваю на ноги, тяну коня. Круп его сносит стремниной, но передними ногами он тоже на мелководье и, стараясь выскочить, бьет ими, разбрасывая брызги и лязгая по камням подковами. Фонарь путается у меня в ногах, болтаясь на длинном шнуре, и бесцельно шарит по воде лучом.
А над всем этим — слепящие сполохи молний, сменяющиеся адской теменью, громовые раскаты по всему небу и хлесткий, с ветром, ливень.
Я промок до нитки. Сажусь на выпирающий из земли корень, снимаю сапоги, выливаю из них воду, выжимаю портянки.
А молнии так и мечутся по тучам. Над самой головой со страшным треском, будто разгрызают орех величиной с гору, рождается гром и, дробясь, бежит к горизонту, — точно осколки гигантской скорлупы скатываются, громыхая, по ухабистому куполу неба. Не успевают затихнуть эти раскаты, как на небе разгрызают новый орех, и от его треска вздрагивает под ногами земля, пугливо съеживается лошадь и в груди у меня что-то обрывается. Люблю грозу! Стою и твержу про себя: «Под-дай! Под-дай еще!» Такой грозы я никогда не видел. Громыхает и сверкает так часто, что, кажется, гром сам по себе — молния сама по себе. После вспышки — чернота и зеленые вертушки в глазах. Снова молния — снова чернота и вертушки. Тени от деревьев мечутся, лес будто ожил. Зрению доверять нельзя: дерево можно принять за человека, а идущего человека — за дерево. Полагаюсь на слух. Земля раскисла и чавкает под ногами. Даже за шумом дождя и за раскатами грома звук шагов можно уловить. Но самое надежное — внимательно наблюдать за поведением коня. Он сразу учует постороннего. Оставшимся по ту сторону потока тоже советовал внимательней наблюдать за поведением лошадей.
Конь стоит под дождем неподвижно, с грустной покорностью, и только чутко прядает ушами. Я прислоняюсь плечом к его плечу, и спина постепенно согревается. Но ливень продолжает зло сечь, глухо барабаня по намокшему брезентовому капюшону.
В эту ночь я впервые заставил рисковать другого человека. Ведь лошадь могла оступиться и под моим напарником… Он еще салажонок, вдруг растерялся бы, не справился с конем? Тут уж никто не смог бы помочь…
Мысли мои перескакивают с одного предмета на другой, порою очень далекий от того, почему я стою в этом ущелье, под ливнем, — а слух настороженно ловит звуки, машинально оценивая каждый из них. Вот что-то треснуло. Это ветер сломал ветку, она мягко упала на землю. Сразу определяю направление и расстояние до нее. Справа слышатся сосущие звуки — это напарник переступил с ноги на ногу…