— Иди за мной!
Филипп обеими руками обхватил голову Тирезия.
— Дейотар перед распятием хочет пытать меня. Какое счастье, что наш царь жив: он отомстит за меня! За меня, за всех!
Человек с фонарем сурово повторил:
— Иди!
Выпрямившись, Филипп твердо пошел к выходу. На последней ступеньке, прикрыв полой плаща фонарь, толстяк опасливо оглянулся.
— Молчи!
Они обогнули стену какого-то сарайчика, и Филипп неожиданно почувствовал над головой дыхание лошади.
— На седло — и прочь! — пророкотал голос.
Филипп опешил.
— Кто ты? Кого мне благодарить?
Его избавитель на минуту осветил свое лицо.
— Никомед?!
Владыка Вифинии улыбнулся.
— Я помню чашу твоей воды… Скачи к морю! Если наткнешься на римский патруль, скажешь — гонец Сервилия…
Он сунул в руку Филиппа перстень.
XV
На открытой равнине высился ряд крестов. Обычно оружие казни нес сам преступник, но истощенные пленники едва держались на ногах — легионерам пришлось поставить им кресты заранее.
У Тирезия отняли посох. Тяжело волоча больную ногу, он то и дело скользил и падал. Его поднимали уколами копий. Окровавленный и перепачканный землей, старый раб, задыхаясь, остановился у края длинной шеренги. Дальше его на погнали. В центре на насыпанном с вечера холмике высился крест. На нем чернела надпись:
«Самозванец Аридем, раб-пергамец, одержимый лютой враждой ко всему доброму, дерзостно выдавал себя за внука Аристоника Пергамского».
Четыре легионера принесли носилки. На них — полутруп с изуродованным лицом, обросшим иссиня-черной щетиной.
— Раб Аридем, — провозгласил наблюдавший за казнью трибун, — ты сейчас будешь распят за все содеянное тобой. Аридем! — Трибун нагнулся к носилкам. — Ты слышишь меня? — Он старался кричать так, чтоб каждое его слово долетало до самых далеких рядов гелиотов. — Какой-то безумец из соблазненных тобой скотов хвалился, что ты пробился сквозь железное кольцо наших когорт и скрылся. Эту ложь мы сейчас рассеем, мы покажем тебя твоим рабам!
Трибун взмахнул рукой, и легионеры, подхватив носилки, мерным шагом двинулись вдоль шеренг обреченных.
Пытливо, с тревогой, надеждой и ужасом всматривались гелиоты в проплывавшее мимо них бессильно распростертое на носилках полунагое тело. Одним казалось, что они узнали рост и волнистые иссиня-черные волосы, другим показался знакомым царский перстень на безжизненно свисавшей руке.
Стоны и рыдания сотрясли ряды, но более сильные духом выкрикивали:
— Не он! Не он! Перстень римляне надели нарочно, чтоб обмануть. Иссиня-черные волосы у большинства азиатов. Средний рост обычен. Не он! Не он! Если б это был наш царь, зачем уродовать его?
Ир, вытянув исхудалую шею, напряженно следил за колыхающимися носилками. Верил и не верил. Не желал поддаться скорби: разве царь не мог пробиться и уйти? Ведь Тирезий видел…
Носилки плыли в двух шагах. Он впился глазами и вдруг протяжно закричал, как от нестерпимой боли. Он узнал на ноге искривленный ноготь большого пальца.
— Братья!
Крик тут же оборвался. Его подхватил с другого конца голос Тирезия:
— Братья! Вам лгут! Изувечили какого-то беднягу, темного и слабого, и говорят — это внук Аристоника! Это не он! Это не наш царь!
Легионеры бросились к Тирезию.
— Не каркай!
Но благая весть уже летела по рядам обреченных. Гелиоты поднимали измученные лица. В затравленных глазах мелькали уверенность и радость. Тирезий не мог ошибиться.
— Наш царь жив! Это не царь! Римляне всегда нас обманывали! Он жив! Он придет!
Гул голосов рос, заглушая слова команды.
— Гелиоты! — кричал избиваемый Тирезий. — Наш царь жив! Он спасен богами! Он придет!
Его повалили и вырвали язык. Шепот пополз по рядам:
— Значит, Тирезий прав! Зачем надо было вырывать язык, если его слова лживы! Лжи не боятся! Этот несчастный не наш царь!
Когда шепот дошел до самых далеких рядов, у обреченных, как из одной груди, вырвался радостный возглас:
— Он жив! Наш царь жив!
Легионеры приступили к казни. Два дня от зари до зари распинали повстанцев. Пощады не просил никто. Четкие черные тени семи тысяч крестов упали на землю Азии.

Часть третья
Посол
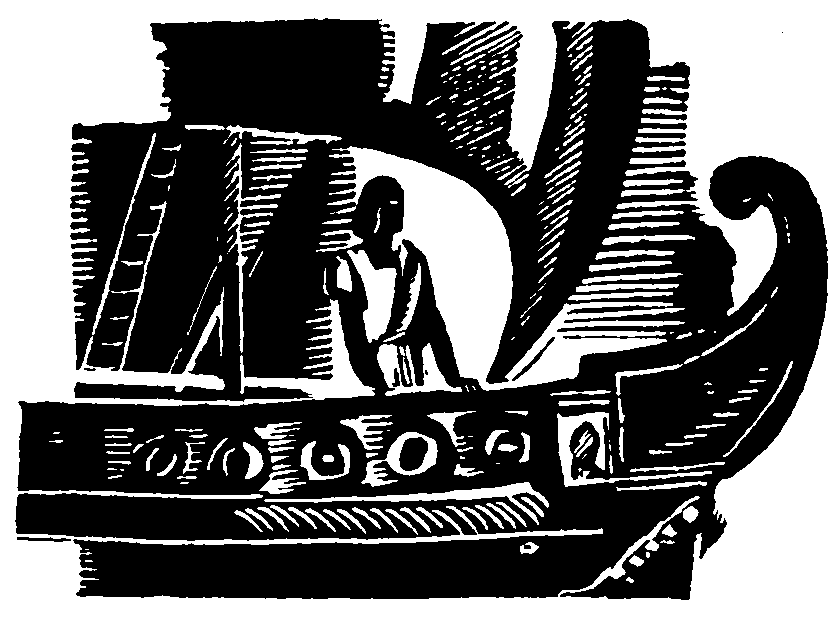
Глава первая
Улыбка Беллоны
I
Дома Филиппа ожидали неприятные перемены. Благородный — и, по-видимому, разорившийся — Люций Аттий Лабиен исчез. Его место занимал чернобородый гигант Каллист. Он не проявил никакой радости по поводу возвращения пасынка и только спросил, чем тот думает заняться.
— Он так измучен, — робко заметила Тамор, — у него одни косточки. Пусть отдохнет…
Голос Каллиста гремел по всей вилле. Тамор приходилось давать отчет чернобородому воину за каждый свой шаг: где была вечером; кто приходил навестить ее днем; какому купцу задолжала; что принес раб под вечер от ювелира… Тамор не восставала.
— Боги разгневаны на Элладу, — вздыхала она, перебирая подстриженные локоны Филиппа. — Жизнь с каждым днем все ужасней. Цены растут. Мужчины скупей и благоразумней. Этот буйвол считает каждый грош и не хочет вступать в законный брак.
— А ты бы заставила его, — слабо посоветовал Филипп.
— Заставить? Мне не двадцать лет, теперь я не могу заставлять, — сетовала Тамор.
Война безнадежно испортила жизнь. Победы Рима отразились даже на ослицах. Их молоко потеряло целебные свойства. Прежде достаточно было двух-трех ванн, и кожа Тамор становилась нежной и эластичной, как лепесток нарцисса. Теперь она купалась дважды в день — и напрасно.
— Мама, уверяю тебя: ты очень молодо выглядишь! — доказывал Филипп.
Тамор прижимала к груди его голову.
— Ох, хоть ты меня любишь! Скоро все забудут. Этот ревнивый бык отгонит последних друзей.
Филиппу было жалко ее. Бедная женщина! Прошло всего два-три года, а прежнего блеска как не бывало. И бедняжка это чувствует. Говорит с мужчинами — в голосе заискивающие нотки. У нее! Недавней царицы всех сердец!
Он с грустью отводил от нее взгляд и думал о новом отчиме: «Грубый неотесанный солдафон, он радуется ее увяданию. Почему? Чтоб не мучиться ревностью? Странная, жестокая любовь». Он ненавидел Каллиста. Ему были противны его черная окладистая борода, толстая шея, богатства, скупость. «Скот! Живет, чтобы есть. Распродал за гроши библиотеку Люция!» — возмущался Филипп.
Друзья Каллиста, шумные хвастливые вояки, распутники и пьяницы, казались ему еще более отвратительными. Когда в доме собирались гости, он убегал в сад.
Стояла глубокая осень. Налетал свежий бриз. С площадки за домом виднелось осеннее море: в ветер — зеленое, с барашками; светло-голубое — в ясные дни. Филипп часами лежал под неярким солнцем без движений, без всяких желаний — один, теперь он совсем один!
В память Аридема ему захотелось перечесть платоновское описание «Атлантиды», сказочно прекрасной страны, где люди жили по законам добра, разума и высокой справедливости.
В столичной библиотеке царила прохлада. У входа, на низеньких табуретках, с досками на коленях и тушью у ног, сидели переписчики. Они размножали рукописи. В глубине книгохранилища мудрецы вполголоса беседовали со своими учениками. Невысокие консоли отделяли один раздел от другого. Их украшали бюсты мыслителей и героев. Александр и Аристотель, Сократ и Демокрит, Перикл и Ксенофонт — все нашли равный почет в памяти потомков.
Филипп попросил у служителя творения Платона. Тот ответил, что в книгохранилище есть лишь один экземпляр его книги. Если благородный воин хочет, для него в ближайшие дни могут сделать копию. У переписчиков теперь мало работы. После войны никто не интересуется мудрецами и поэтами.