— Да что я, необстрелянный, что ли? А помнишь?..
— Успокойся, Яунзем, не болтай ерунды. Все мы любим чужими руками жар загребать. Но теперь не уйдем с поста, если даже придется взлететь. на воздух вместе с эшелоном,— проговорил твердо Айгар и опять принялся вышагивать вдоль вагонов.
В этот момент огонь перекинулся на ближайший склад. Люди, пытавшиеся затушить пламя, казались такими беспомощными, ничтожными перед лицом огненной лавины. Силы их таяли.
Алые языки уже реяли над головами стрелков, огненной аркой пламя смыкалось над эшелоном. Что-то ломалось, трещало, рушилось. Дробинки искр вонзались в шинели и шапки часовых, проникая за шиворот, с шипеньем жалили потное тело. Духота и жара становились невыносимыми.
Когда Айгар повернулся, Яунзема на месте не было. Инстинктивно стиснув винтовку, вгляделся в темноту. Неужели сбежал?
И тут Айгар заметил, кто-то крадучись ползет под вагоном. Несколько прыжков, и Айгар очутился рядом, пригнулся и замер: это был Яунзем..
— Ты что? — крикнул Айгар.
Из-за колес глянули обезумевшие в страхе глаза, бескровные перекошенные губы что-то лепетали.
Не разобрав того, что говорил ему Яунзем, Айгар еще крепче сжал в руках винтовку, выпрямился и снова крикнул:
— Яунзем, ты что?
Сквозь завывания ветра Айгар расслышал хриплый голос:
— Айгар, не могу... Не могу...
И в тот же миг Айгар увидел, как Яунзем пополз дальше, через рельс. Ствол его винтовки зацепился за колесо. Яунзем пригнулся еще ниже и дернул. Винтовка выпала из рук и звонко ударилась о железо.
В просвете между вагонами Айгар увидел, как Яунзем, согнувшись в три погибели, бежал в темноту, бежал от него, от огня, от эшелона, от смерти.
«Предатель! —- пронеслось в голове у Айгара. — Негодяй!»
Яунзем убегал, но Айгару казалось, что к эшелону приближается враг.
«Не подпускать ближе десяти шагов...»
Айгар вскинул винтовку и выстрелил. В трепетном свете пожаров он увидел, как Яунзем подпрыгнул, точно раненый заяц, и, раскинув руки, грохнулся на землю. Над ним заплясало пламя, заклубился дым.
Айгар больше не смотрел в ту сторону, где свалился Яунзем. Он боялся вспомнить те далекие утра, что приходили в сиянии солнца с птичьим щебетом, с запахом цветов. Что, если вдруг глаза затуманятся от дорогих воспоминаний, а пороховые дымы пахнут душистыми лугами, навевая грусть? И потому он не смотрел в ту сторону, где упал и навсегда остался лежать друг его молодости Яунзем.
Вскоре дернулся состав, лязгнули буфера, пришли в движение застоявшиеся колеса, задрожали рельсы. Просвистел паровоз, эшелон поспешно покатил по направлению-к станции.
В городе был вывешен приказ Революционного трибунала. Одна за другой колонны стрелков стягивались к станции. Издалека доносилась артиллерийская канонада. Это приближался враг.
Айгар с удовлетворением прочитал приговор трибунала. Всю ночь до утра он простоял на посту — пока не дали приказ выступать. И потому он чувствовал себя совершенно разбитым.
Проходя мимо станции, Айгар все же глянул в ту сторону... Но там ничего не было видно. Дрожащими хлопьями опускался снег, укрывая землю пушистым белым саваном.
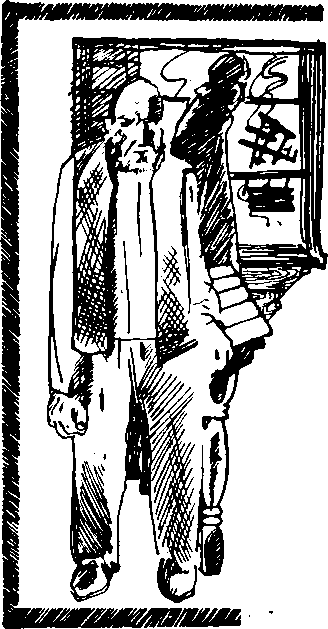
Эдуард Салениек

(род. ■ 1900 г.)
ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК
■
[ етерис Лапинь достал из ранца старенькое мутное зеркальце и бритву в футляре, склеенном из папиросных коробок, и насыпал в щербатую глиняную чашку тонкую мыльную стружку. Пятилетний Пецис уставился на отца широко раскрытыми голубыми глазами.
— Солдат, что это ты делаешь?
Петерис улыбнулся. Это была улыбка фронтовика — смесь грусти,- усталости и юмора.
— Щетину скрести собираюсь.
— А где ты ее возьмешь? А вот Алма приносит, когда свиней пасет... а мне не дает. Говорит: у кого есть щетина — тому платье. А как из щетины платье делают?
Отец, смеясь, прижал щеку мальчика к своей.
— Ну, а моя щетина тебе нравится?
— Ай, отпусти, солдат... колется! — Пецис вырвался из отцовских объятий. — Свиная не колется, а твоя — как иголки.
— Ничего, сейчас сбрею...
Мальчонка вздрогнул.
— Нельзя! Увидит хозяйка... выпорет!
— За что она меня выпорет?
Мальчик, озираясь, зашептал:
— Алма говорила... и мамка тоже: «Ты, карапуз, помалкивай. Не то худо нам будет, если хозяйка узнает.
что Алма щетину у свиней щиплет...» — На детском личике промелькнул страх.
Петерис вспомнил свое детство: как хлебнул он горя из-за пятнистого борова. Якобштадтский коробейник Абрам за пучок щетины платил несколько копеек, либо давал карандаши и тетради. Как плакал он, застигнутый на ме-^ сте преступления хозяйским дедом. Было это в Латвии, а теперь они жили в Белоруссии. Тогдашних хозяев звали Зепниеками, теперешних — Лиепниеками. Петерис горестно улыбнулся: у кого есть щетина — тому платье. На косынку бы надергать — и то ладно...
Вспомнилось, как до войны он, Петерис Лапинь, жил на берегу Сусеи и работал кузнецом. Его захудалую кузницу своротил артиллерийский снаряд, жена Алвина с двумя детьми подалась сюда, в Белоруссию, в старую латышскую колонию Видрею. Сам Петерис, залечив рану — память об острове Смерти, вышел из госпиталя и теперь приехал домой на побывку. Уже завтра ехать ему обратно в свой 6-й Тукумский полк. Кто знает, придется ли еще когда-нибудь погладить белокурые головки своих детишек.
Петерис встрепенулся — Пецис, дернув его за рукав, крикнул:
— Солдат... Эй, солдат! Заснул, что ли? Когда щетину скрести будешь?
— Сейчас — раз и готово!
Петерис торопливо взбивал мыльную пену и приговаривал:
— Черт-те что, а не помазок. Истрепался, как наша армия.
Раскрылась дверь — вошла мать. Пецис кинулся к ней словно за помощью.
— Мам, что солдат, шутит?
Заботы и горе мелкими морщинками испещрили когда-то румяное лицо Алвины. Она остановилась на пороге и взглянула на мужа, водившего по лицу бритвой. Вдруг схватила с гвоздя полотенце и подскочила к столу. Осторожно вынула из руки мужа бритву и вытерла с лица полотенцем мыло.
— Что ты делаешь? — Петерис в недоумении широко раскрыл глаза, точно как только что Пецис. — Чего озоруешь?
Алвина перевела дыхание. На рано поблекшем лице расцвела тихая улыбка.
— Я принесла тебе жизнь.
* * *
— Ну, пострел, долго еще будешь тут вертеться? Ступай в поле, к Алме! — сердито крикнула мать.
— Я хочу к солдату... —Пецис потер кулачком глаза.
— Перестань ныть! Березовой каши захотел? — И она пальцем показала на розгу, торчавшую за потолочной балкой.
Петерис мрачно молчал. Все эти годы Алвина, и в стужу и в зной, ночей не досыпала, как львица дралась за детей. Он тут только гость, даже подарка детям не привез, —1 что ж, приходится теперь держать язык за зубами.
Когда мальчонка был изгнан во двор, Петерис взял шершавую руку жены и пробормотал:
— Зачем обижаешь мальчонку? Я ведь завтра уезжаю...
Жена легонько поворошила ему волосы:
— Господи, у тебя совсем седые виски! В тридцать шесть лет...
Петерис виновато вздохнул:
— В окопах день за год посчитаешь. Так что мне, наверно, уже за двести перевалило.
— Ничего! — В голосе жены зазвучали нежные нотки. — Скоро ты у меня помолодеешь.
— Неужто мирные переговоры начались? — Петерис подался вперед.