— Никого здесь нет. Кто в такую жару заберется в шерсть?
Другой сказал, что поиски можно продолжить и утром.
— Все равно далеко они не ушли. Если в степь бросились, их там волки сожрут, а если в реку спустятся, вода их проглотит. Нет, под этим небом никому еще не удалось спастись с ярмом на шее. Или кому–то из вас приходилось слышать о таком?
Никто ему не ответил.
— Сделаем так: ляжем пока спать, а утром, сами увидите, прежде чем солнце зайдет за юртой Таргутая, эти двое окажутся в нашей орде и будут еще каяться. Видели вы, какими возвращаются оторвавшиеся от стада и колодцев верблюды? Вот такими будут и они.
Когда тайчиуты вышли из кибитки, орда вскоре снова затихла. Я услышал, как Темучин потихоньку выполз из шерсти. Я сделал то же. Темучин потряс за плечо улегшегося уже на подушки хозяина кибитки и тихонько проговорил:
— Оэлон—Эке приветствует тебя, дорогой Сурхан—Шира. Мать Тучи часто о тебе вспоминает.
— Темучин!
— Со мной друг, Сурхан—Шира. Выходи, Кара—Чоно, покажи ему ожерелье, которое дал нам в награду Таргутай.
Сурхан—Шира закрыл глаза и уши руками, как бы не желая ни видеть, ни слышать того, что сейчас от него потребуют.
— Ты ведь не забыл, Сурхан—Шира, — прошептал Темучин, — как я играл с твоими сыновьями на льду Керулена. Тогда я и сам был мальчиком. А ты с семьей жил в орде моего отца.
— Нет, клянусь Вечным Синим Небом, этого мне вовек не забыть!
— Тогда разбей наши ярма, Сурхан—Шира!
— А если они опять вас поймают? Тогда мой пепел развеют на все ветра. Нет, не смею!
Я беспомощно взглянул на Темучина. Как теперь быть? Но Темучин только улыбнулся.
— Как хочешь, Сурхан—Шира. Но когда Таргутай услышит, что ты нашел нас у реки и не донес ему, разве он не удивится? И что ты ничего не сказал о нас, когда обыскивали твою кибитку?
Сурхан—Шира разбил наши ярма, сварил в котле распиленного надвое ягненка, наполнил несколько кожаных мешочков кумысом, дал нам луки и стрелы.
— Пусть небо сделает вас невидимыми, пусть наградит ваших коней крыльями, чтобы не только вам, но и мне было суждено еще много раз встречать восход солнца.
— Моя мать, Оэлон—Эке, будет тебе благодарна, я тоже никогда–никогда этого не забуду, Сурхан—Шира.
Расщепленные деревянные ярма потрескивали в костре.
Он подарил нам еще двух желтых, как солома, кобылиц.
— Скачите! Ищите ваших матерей, — сказал он на прощанье.
Мы вскочили на неоседланных лошадей, вырвались в степь и от радости стали их нахлестывать. Их гривы так и развевались на ветру!
— Темучин! — кричал я.
— Кара—Чоно! — кричал он.
Утреннее солнце облобызало наши лица. Мы смеялись, кричали без конца «Темучин!» и «Кара—Чоно!» и не могли успокоиться, пока после полудня не достигли холмов, за которыми была наша орда — это на нее в то утро с гиканьем набросились тайчиуты. Придержав лошадей, мы остановились неподалеку от пропасти и долго любовались на рощицу вязов, на тучные пастбища, на голубой Керулен, который молчаливо огибал лес. Там, где стояли круглые войлочные юрты, трава была желтой, седой и мертвой.
— Мать Тучи ушла с моими братьями и остальной ордой к горе Бурхан—Калдун, — сказал Темучин. — Однажды гора уже спасла мне жизнь, и на ее вершине небо так близко, как нигде.
И мы поскакали вниз по реке, скакали полночи, продрались сквозь лес и оказались у подножия горы, где снова встретились с родными.
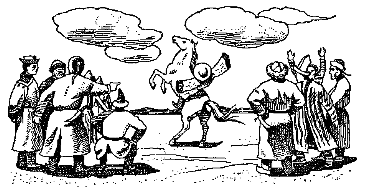
Глава 2
ЧТО ОДИН КИНЖАЛ, ЧТО ДРУГОЙ
Мои родители были бедными пастухами, которые о заболевшей овце пеклись больше, чем о родных сыновьях, и не потому, что не любили сыновей, а потому, что павшая овца означала для них голод, а умерший ребенок — всего лишь боль и печаль. Мой отец служил Есугею, участвовал в его набегах на соседние племена, когда вождь того требовал или когда враги первыми нападали на нас. Но по своей воле никого не убивал, никогда не мечтал вернуться из похода с добычей, всегда прислушивался к словам стариков и соблюдал обычаи предков. Некоторые называли его Молчальником. А кое–кто называет его так и поныне. Молчать он научился, когда ловил рыбу в Керулене или охотился в лесах Бурхан—Калдуна. После битв всегда радовался возвращению на берега реки у подножия гор, потому что любил одиночество и уважал жизнь.
Когда я, его старший сын, вошел в юрту и поведал, что нам с Темучином пришлось снести у тайчиутов, он поцеловал меня в глаза, открыл сундучок и достал из него завернутый в кусок шелка небольшой кинжал.
Мы молча оставили юрту.
Серое утро, занимавшееся над ордой, изгоняло ночь, сталкивая ее в степь, где луна уже спряталась за острыми травами.
За вершину Бурхан—Калдуна цеплялись тучи, в отступавших сумерках на северном склоне горы чернел лес. Мы начали карабкаться наверх по крутой тропинке, и чувство, что ты идешь навстречу расцветающему утру, было приятным. Особенно для меня, которому уже незачем было бояться восхода солнца.
На вершине легкий ветерок теребил траву.
Мы сели на валун и, не произнося ни слова, повернули головы в сторону черневшего внизу леса, за которым виднелась широкая розовая полоса, — это выкатывалось солнце. Мы сняли наши шапки, повесили на шею ремни и благодарно поклонились раскаленному огненному шару. После чего отец достал маленький кинжал и, протянув мне, торжественно проговорил:
— Когда–то мне довелось охотиться со старым Есугеем по ту сторону Керулена в густом лесу. Нас было двенадцать охотников, кому было велено окружить и загнать зверя. Но убьет его наш вождь — таков был приказ, который мы уважали не только потому, что вождь был строг. И хотя Есугей был хорошим охотником и его стрела всегда попадала в то место, которое он называл, в то утро он не попал с первой стрелы в могучего медведя. Да и вторая не попала ему в сердце, как хотел Есугей, и разъяренный зверь пошел прямо на него. Одиннадцать охотников побледнели и оцепенели, не зная, как быть — нарушить приказ или нет? Но я успел выпустить стрелу прежде, чем медведь подмял нашего вождя. Попал я точно, а потом еще воткнул в него кинжал. Рядом со стрелой.
— А что Есугей, отец? Что сделал, что сказал?
— Да, что он сделал и что сказал, Кара—Чоно! Тогда я так же ждал его слов, как ты сейчас моих. Вдруг он сказал бы, что сам справился бы со зверем? Никто не посмел бы ему перечить. И разве я вообще смел тягаться с моим вождем? Он мог бы обвинить меня в том, что я усомнился в его храбрости. Да что там — как я вообще мог нарушить приказ? Но Есугей был мудр, и он сказал: «Одиннадцать из вас подчинились моему приказу, и это едва не стоило мне жизни, а один нарушил его и спас меня от смерти. И если я его сейчас отблагодарю, то разве за непослушание? Сами подумайте об этом, и вы поймете, о чем я веду речь». И тогда, Кара—Чоно, Есугей подарил мне этот дорогой кинжал.
Лучи солнца огнем переливались в драгоценных камнях ножен и рукояти и отбрасывали пестрые брызги на лицо отца.
Над нами беззвучно кружили два сокола, которые вдруг ринулись вниз, прямо на стаю чаек. Белые перья грустно опускались в Керулен, и течение реки покачивало их, унося с собой.
Отец сказал:
— Отнеси кинжал Темучину в подарок за то, что благодаря его хитрости вам удалось спастись. Пусть и он станет таким же мудрым, как его отец.
Спустившись к подножию горы, мы встретили там караван китайских купцов, направлявшихся в нашу орду. Дети с криками выбегали из юрт навстречу чужеземцам и замирали от удивления при виде ярких нарядов торговцев и перегруженных верблюдов. Сколько ящиков, сколько тюков!
И вот уже караван обступили пастухи, охотники и их жены. Каких только чудес не оказалось в тюках и ящиках: шелковые ковры с красочными орнаментами, бархатные платья и дорогие сукна, колчаны из слоновой кости, щиты, кинжалы, украшения и сладости.