В кабинете его не оказалось. Зато моему взору представилась необычная для комиссарского кабинета картина.
На спинке стула висела новенькая, хорошо разглаженная шерстяная гимнастерка — на ее петлицах, по два на каждой, блестели вишнево-красные командирские «кубики», на рукавах гимнастерки, спускавшихся к полу, горели мягкие матерчатые звезды политрука. На подоконнике лежала новая, с голубым околышем фуражка, рядом с ней — широкий ремень с узенькой и острой по краям скрипучей портупеей. На другом стуле покоились аккуратно свернутые и тоже разглаженные темно-синие диагоналевые брюки. А у стола комиссара во весь рост стояли ярко-красные яловые сапоги.
Вошел Коршунов, бодро спросил:
— Ну-с, догадался?
— Как не догадаться, — буркнул в ответ.
— Искренне поздравляю, Алексей. Переодевайся.
В глубине души я еще надеялся, что этого может не случиться. Знал, что представление направлено, что Коршунов слов на ветер не бросает, и все-таки лелеял мечту-соломинку: вдруг почему-нибудь откажут. Теперь надеяться не на что, возможное стало фактом, — надо одеваться.
Коршунов, чтобы не смущать меня, ушел в темный угол, стал разглядывать карту.
— Жалко, шинели не нашлось. Все склады обшарили — нет командирских шинелей. Сапоги — и те, видишь, не форменные. Сойдут, они вроде прочные, года на два хватит.
Покопавшись где-то в Средиземном море, Коршунов неожиданно воскликнул:
— Идея, товарищ Дубравин! Сделаем еще одну — последнюю попытку.
Он вышел и скоро возвратился. Вместе с ним пришел Антипа.
— Ищем шинель, товарищ Клоков. Нужна позарез добрая двубортная шинель. Вы кадровый военный — нет ли у вас лишней?
— Алексею? — спросил Антипа, скосив глаза в мою сторону.
— Алексею. Новоиспеченному младшему политруку Дубравину.
— Есть, товарищ комиссар.
— Ну так одолжите во временное пользование?
— Пусть носит на здоровье.
Я в это время натягивал сапоги и ничего как будто не слышал: мне не хотелось стеснять себя зависимостью от Клокова.
— Поздравляю, Алеша! — слишком радостно крикнул Антипа.
— Спасибо, — промычал я в ответ.
— Шинель утром будет, если товарищ комиссар разрешат мне на ночь увольнительную.
— По такому случаю разрешаю, — согласился Коршунов.
Антипа козырнул и победоносно вышел.
Короткий диалог, неожиданный и резкий, произошел после того, как я переоделся, со скрипом прошелся в новых сапогах из угла в угол и мы сели — Коршунов за столом, я против него.
— Надо ли учить тебя офицерской этике?
— Думаю, не надо, Дмитрий Иванович.
— Стало быть, не будем. Запомни одно: командиры и комиссары Красной Армии — не белая кость, не голубая аристократия. Где бы ты ни был, какой бы начальнический чин тебе ни прицепили к петлицам — всегда держи нос книзу, не отрывайся от народа. Народ тебя поднял, он же может и опустить. Опускаться не советую. По-моему, нет ничего обиднее и хуже — идти все время на подъем, а в один разнесчастный день увидеть себя печально распластавшимся возле той самой ступеньки, с которой когда-то начинал движение. Ясно ли я выражаюсь?
— Ясно, Дмитрий Иванович.
— Ну, а теперь будем прощаться.
Я вздрогнул.
— Вы уезжаете?
— Уезжаешь ты, я никуда не еду.
Очередная реплика нашлась у меня не сразу. Волнуясь, спросил:
— Интересно, куда же я должен поехать?
— С Васильевского острова на Лермонтовский проспект — на фронтовые курсы политсостава.
Я встал и решительно сказал:
— Я никуда не поеду, Дмитрий Иванович.
— Ехать, говорю, не надо, — усмехнулся Коршунов. — Возьмешь чемодан и перенесешь его с одной улицы города на другую, только и всего.
— Учиться я не поеду. Это очень плохо придумано, товарищ батальонный комиссар.
Коршунов поднялся, гневно посмотрел на меня, гневно сказал:
— Придумал не я. Меня не спрашивали. Через голову из поарма предписали. Им там виднее, плохо или хорошо они поступают. Посылают вас на курсы агитаторов. А я не намерен, не вправе обсуждать решения сверху. И вам не рекомендую. Приказ есть приказ. И… желаю всего доброго. Пожалуйста. Прибыть к начальнику курсов надлежит в субботу к семнадцати ноль-ноль.
Коршунов уткнулся в карту полушарий.
— Ну и порядок! — пробормотал я.
— Великолепный порядок, юноша. Военный! Обязывающий использовать человека именно там, где в данный момент он всего нужнее. А вы в самом деле должны быть агитатором. Скорее даже пропагандистом.
Минуты две молчали. Я стоял у стола, Коршунов — у карты.
Подойдя ко мне, Дмитрий Иванович сказал:
— Не будем ссориться, Алеша. Изредка будешь наведываться в гости. А осенью — прошу восвояси. Буду настаивать, чтоб тебя возвратили в полк. Договорились?
Я уже сдался.
— Приказ есть приказ, Дмитрий Иванович.
— Приказы бывают разные. Этот, полагаю, подсказан умной головой.
— Не знаю.
— Со временем оценишь.
Коршунов сел, пристально осмотрел меня с головы до ног, затем поднялся и протянул мне руку.
— Ну, всего доброго, Алеша? Сапоги не жмут?
— Сапоги как сапоги, Дмитрий Иванович. Спасибо…
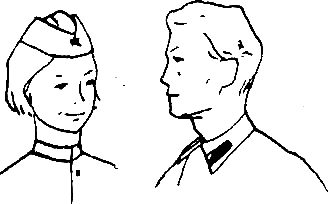
Последний эпизод
Свою должность и дела я передал Виктории Ржевской — одной из тех востроглазых ленинградских девушек, что прибыли к нам в полк ранней весной добровольцами.
Виктория была самая бойкая, может быть, самая дерзкая из всех комсомолок полка, к тому же она знала комсомольскую работу: два года, как и я когда-то, была секретарем комитета в школе. Я без сожаления уступил ей место, только подумал: нелегко ей будет командовать Лапшовым, Митрохиным, Виктором и другими такими же капризными ребятами.
Когда подписали протокол на передачу документов, Виктория, блеснув горящими глазами, медленно сказала:
— Вы должны мне помочь на первых порах.
— С удовольствием, — ответил я. — Но я, вероятно, не смогу отлучаться с курсов.
— Приходите хотя бы раз в неделю.
— Не знаю.
— Прошу вас, Дубравин.
В эту минуту Виктория напомнила мне Валю. Подумав, я обещал ей наведываться в полк, если представится возможность.
— Если захотите — представится.
— Возможно.
— Желаю вам стать генералом.
— Не собираюсь.
— Оставайтесь просто Дубравиным.
— А это моя обязанность.
— Вы всегда такой казенный, товарищ младший политрук?
— Пожалуй.
— Ох, невесело с вами!
Виктория засмеялась.
— А знаете, — неожиданно сказала она, — в доме напротив живет молодая смуглолицая особа…
— Зовет себя Ивушкой, нигде не работает, с утра надевает нарядное платье и полдня проводит на балконе в ожидании генеральской машины…
— Откуда вы знаете, Дубравин? Почему она не с нами?
— Видимо, потому, что замужем за генералом.
— Но свадьбы еще не было! И генерал не молод. — Виктория подумала. — Печальнее всего, — вздохнула она, — что мы друг друга знаем. Учились в одной школе. Теперь Капитолина меня не замечает. Словно я — это не я, а она — не она. Почему, Дубравин? Стыдно?
Мне трудно было ответить на ее вопрос, но она, вероятно, и не ждала ответа. Когда я уходил, она, улыбнувшись, напомнила:
— Так вы обещали…
— Своих обещаний я не забываю.
— Спасибо, снисходительный Дубравин.
Впоследствии я часто вспоминал этот пустой разговор. Он оказался началом одной любопытной истории.
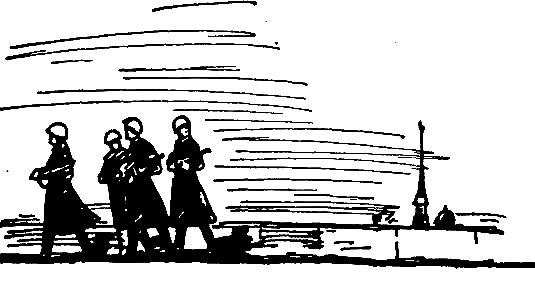
ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ШКОЛА И ЖИЗНЬ
Знаю, несовместимое несовместимо. И тем не менее и бомбы, и ромашки — слова одной и той же песни, Из песни же слова не выкинешь…
