— Ты что, умирать собрался? Я, например, не тороплюсь. Надо жить, поколе можно, — даже в этих вне-исторических условиях.
Мне не понравилась его бодрая сентенция и тон, докторально-покровительственный тон, каким он произнес ее. Обменялись неловкими взглядами.
— Ты все такой же… мятежный?
— Ага, — коротко и бездумно отозвался он, отправляя в рот последнюю ложку супа.
«Ага» мне тоже не понравилось.
— Скажи, Юрка, тебя не тревожат печальные мысли?
— К примеру?
— Ну, скажем, сомнения, острые вопросы, неясность перспективы.
— Нет, — простовато и как-то поспешно высказался Юрий. — Работа в газете требует всего, с головой и ногами. Где тут размышлять, тем более сомневаться! Живу одной истиной: война — так по-военному.
«Ну, это ты хорохоришься, друг, — решил я про себя. — Вовсе не так уж легко и просто жить в эту войну. «Война — так по-военному». Очень ведь непросто, Юрка. В школе ты не был таким самоуверенно-бездумным. И тон у тебя был другой. Тогда ты держался скромнее, по каждому вопросу спрашивал совета…»
— Пашку или Виктора не видел? — прервал меня Юрий.
Я рассказал о последних встречах с Виктором.
— Странно изменился парень. Нервный, изломанный, словно потерял что-то. Корчит из себя несчастного и со всеми ссорится. Словом, мы, кажется, разошлись — всерьез и надолго. Может, даже навсегда.
— Не может быть! — усомнился Юрий. — Значит, не поняли друг друга. Честное слово, какое-то недоразумение.
— Но ты же при наших встречах не присутствовал! — почти возмутился я.
Юрий опешил, застенчиво дотронулся до моей руки.
— Ладно, не будем об этом. А то еще рассоримся по пустякам.
— По-твоему, пустяки?
Помолчав с минуту, он неуверенно заметил:
— Ты тоже изменился. Седеть, кажется, начал?
— Все тот же, — сказал я безразлично.
— В самом деле виски засеребрились, ай-ай!
— Я их пеплом посыпал.
— Рановато, друг мой, рановато.
Поговорили еще. Потом Юрка поднялся, стал прощаться. Я предложил ему ночевать — он отказался.
— Бегу. Завтра с утра — срочная работа.
Я проводил его до ближайшей улицы, грустный вернулся в холодную комнату.
И что за квасливое настроение? Будто тебя, разгоряченного, внезапно прохватил сквозняк. Злой и голодный лег спать. Было тридцать минут первого — нового 1942 года. В прошлом году в этот самый час у нас в институтском общежитии сияла нарядная елка…

О чем шептали камни
Шел я однажды с отдаленной точки — дело было вечером, тихо потрескивал в голых аллеях мороз, в небе чуть видно голубели звезды — я все глядел, все смотрел по сторонам и неожиданно стал фантазировать. Сперва мне представился один поэтический образ; этот образ навеял далеко не поэтические ассоциации; а под конец пути я вдруг заспорил с собой, заспорил без снисхождения: простой и болезненно трудный вопрос — «Что же делать, Дубравин?» — возник предо мной во весь устрашающий рост.
Поэтом я в те годы не был, не стал им, к сожалению, и позже. Однако же в тот памятный вечер мне пригрезилось, будто отчетливо слышу негромкий тревожащий шепот страдающих на ветру настуженных камней. Они шептали отовсюду, со всех углов и перекрестков, и я без особого напряжения слуха ловил в тишине их торопливый ропот.
Тихо шептали какую-то жалобу булыжные камни мостовых и развороченные бомбами плиты подъездов и тротуаров…
Шепотом печалились избитые осколками камни фундаментов и стены простуженных зданий…
Гневно шептали седые от инея гранитные парапеты набережных и мостов…
Слабо стонали обжигаемые холодом камни коринфских, дорических, ионических колонн…
В местах, где осколки сорвали штукатурку, камни зияли открытыми ранами, эти раны, думалось мне, сочились слезами и кровью…
О чем они шептали?
Камни как будто говорили, что над улицами города вновь собираются грозовые тучи. В ответ на бесславный разгром под Москвой и поражение у Тихвина мстительные немцы подкатывают к нашим воротам крепостные пушки, доставленные, кажется, из-под Севастополя. Теперь они хлестко грозятся взять реванш под Ленинградом, стереть этот непокорный город в пыль и порошок.
Камни предупреждали об опасности изнутри. Желчного Оглоблина я, разумеется, помню. Он больше не опасен. Но кто может заверить, что в подвалах города не прячутся другие такие же Оглоблины? Напротив, рассказывают, их отнюдь не мало. Они орудуют ночами в темных переулках, готовя своей сатанинской работой удар по Ленинграду в спину.
Одновременно с этим, мне чудилось, камни цедили тоскливую ноту о наших медлительных союзниках. Где-то за тридевять земель, не то в знойной Африке, не то в Тихом океане, замышляют они открыть новый фронт против немцев весной или летом. Как они великолепны в своих осторожных размышлениях! Это же неподражаемо мудро — представить, что воды Великого океана начнут вдруг омывать берега Европы и западной России!..
Может быть, камни шептали о другом; возможно, они ни о чем не шептали, просто стонали на ветру от холода. Но мне этот жалобный стон вывернул всю душу.
«Что такое ты и твоя комсомольская работа? — спросил я себя. — Разве это самое необходимое, что мог бы и должен делать ты в такое безумное время? Вот ты без устали ходишь по точкам, рассматриваешь на бюро персональные дела, часто выполняешь задания Полянина — много ли пользы от такой работы? Верно, ты не волен выбирать себе занятие. Рядовой подразделения, находясь в строю, не волен поступать по собственному усмотрению: его обязанности вписаны в уставы и задача его — бодро шагать под командой старшего. Делай, что приказывают… Но ты все-таки комсорг, не просто рядовой армеец. Комсорг — стало быть организатор. Друг и поверенный, и маленький учитель своих молодых товарищей. Какое же доброе дело ты организовал? Кому ты помог? Кого научил? Да и сам ты — неужели сам не нуждаешься в учении и помощи? Все ли тебе ясно? Все ли вопросы, смущающие душу, ты перебрал и разрешил?»
Вспомнились школа, первый год студенчества, мечты о прекрасном будущем. До чего же просто, игрушечно просто и наивно! Мы распевали песни, сочиняли оды, робко и красиво влюблялись, исходили спорами. Бывало, огорчались, когда получали «двойки» и опаздывали на свидание. Но всерьез не думали, что если случится война, придется воевать, придется положить на плечо винтовку. Нет, не подумали. Вообще в лучезарных наших планах места войне не отводили. Напрасно. Она началась — и порвала все планы. Розовые, голубые, дымно-романтические…
Хуже всего, конечно, неизвестность. Долго ли будет тянуться война, этот голод, зима и блокада? Настанет ли время, когда снова мы будем учиться, беспечно бродить по сверкающему Невскому, в любую минуту, только захочешь, встречаться и говорить с друзьями?
Что же делать, Дубравин? Что придумать, чтоб не мучила совесть? Как обрести себя в этой жестокой действительности? Трудный вопрос нашептали камни…
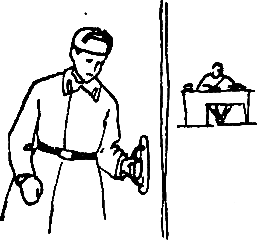
Несостоявшаяся исповедь
Не мудрствуя лукаво и не откладывая исполнения задуманного в долгий ящик, я на второй же день отправился со своим вопросом к старшему политруку Полянину. Хотел рассказать ему все, чем волновался и мучился в последние дни.
Прежде всего надо было разрядиться — поведать о своем не очень бодром настроении и, может быть, ослаблении огонька комсомольского задора. Это была бы, вероятно, исповедь. Пусть исповедь. Прежде я никогда не исповедовался: рассказывать о себе считал противнейшим занятием. Но сегодня, каких бы усилий то ни стоило, придется покаяться в собственной слабости. Это нужно сделать хотя бы для того, чтобы с чистой совестью попросить потом перевода на другую должность. Почему бы, к примеру, мне не стать командиром расчета? Не справлюсь? За четыре месяца, думаю, я достаточно присмотрелся к несложной нашей технике, чтобы грамотно снарядить аэростат и по правилам сдать его в воздух. По крайней мере сознавал бы, что каждый прожитый день проведен с очевидной пользой… Еще я намерен спросить у комиссара, долго ли будем смирнехонько отсиживаться в каменных зданиях, доедая последние запасы продовольствия. Правда, люди живут теперь надеждой на автомобильную дорогу по Ладоге. Хлеб, надо думать, скоро у нас будет. Но доколе же будем обороняться? Не соображается ли в сферах высокого командования решительное изменение обстановки в пользу Ленинграда?