Отель «Люкс» постепенно обезлюдел. По ночам во двор въезжали машины. Оставшиеся жильцы сидели по своим комнатам и прислушивались к шагам энкавэдэшников. Иногда раздавались крики. Иногда женский или детский плач. И снова шаги по ступеням. С грубым подталкиванием тех, кого выводили.
Маня Бейлин уже работала не в ТАСС, а в редакции пропагандистской газеты «Жюрнал де Москоу». Беспокоясь о родственниках, ежедневно в сумерки забегала в гостиницу. Годы спустя рассказывала мне в Париже, как входила в ворота и сразу искала глазами окна Макса и Стефы. В них горел свет. И камень падал с души. Не может забыть этой жуткой картины: с каждым днем все меньше и меньше становилось светящихся прямоугольников на белой стене.
21 июня 1937 года свет в знакомых окнах еще был, но гостиница выглядела вымершей. Ни одного человека на лестнице. Тишина. Пустые коридоры. Маня постучала в комнату Стефы. Тетка лежала на кровати с сердечным приступом, она была чем-то смертельно убита. На минуту в ее комнату заглянул Макс. До неузнаваемости изменившийся. Всегда полный энергии и жизни, он был сейчас похож на старика. Худое лицо, запавшие щеки, мертвые глаза. Молча присел на постель жены. Маня, не зная, что посоветовать в этой полной безнадежности ситуации, но, желая как-то помочь, пошла на кухню заварить чай. С благодарностью они взяли чашки с горячим напитком, но не смогли сделать ни одного глотка. Она попыталась с ними заговорить. Слова повисали в воздухе. Будто они находились в другой реальности, в ином измерении. Никакого контакта с ней. Время шло. Приближалась полночь. Она не хотела оставлять их одних, но Макс сказал: «Иди. Уже очень поздно!» И обнял ее на прощание.
Внизу, в холле она увидела входивших в двери гостиницы сотрудников НКВД и подумала: «На чью голову падет этой ночью несчастье?» На следующий день с самого утра позвонила Максу. Трубку снял сын — Стась. Спросила только: «Как мама?» Ответил: «Не приходи сюда!» И трубку повесили.
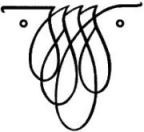
«Враги народа»
За Максом пришли 22 июня 1937 года около двух часов ночи. Стефа, страдая от бессонницы, заглянула к мужу. За дверьми его комнаты услышала мужские голоса. Попыталась войти, ее не впустили. Грубо велели вернуться к себе. По рассказам соседей, сначала был выведен он, потом она. В обеих комнатах провели тщательный обыск, и, как всегда в подобных ситуациях, летели книги с полок, бумаги из ящиков, вещи из шкафа. Рано утром в гостиницу прибежал Стась, взволнованный тем, что ни мать, ни отец не подходят к телефону. Когда увидел, что произошло, попытался хоть что-нибудь о них разузнать. Никто не мог сказать, в какой они тюрьме, что им грозит и как помочь. Не действовали ни протекции, ни знакомства. Люди исчезали бесследно. Будто никогда их и не было. Энкавэдэшники, забирая старого Адольфа Барского, разбили ему очки, без которых он ничего не видел. На следующий день дочь бросилась на Лубянку с запасными стеклами. Отказались принять. Только услышала в ответ: «Они ему больше не понадобятся».

Максимилиан Горвиц-Валецкий
В своих воспоминаниях, написанных много лет спустя, Маня объясняет причину, из-за которой Валецкий был таким убитым в их последний вечер встречи. Обо всем узнала из достоверных источников в Париже. Макс к тому времени не сомневался в том, что его ждет. Позади «проработка» Специальной комиссии контроля при Коминтерне. Его допрашивали ближайшие соратники и друзья: в том числе Пальмиро Тольятти, финский коммунист Отто Куусинен и глава Коминтерна болгарин Георгий Димитров, которого в 1933 году обвинили в поджоге Рейхстага. Тогда у него хватило смелости разоблачить на суде гитлеровскую провокацию. Но сопротивляться указаниям Сталина он не решился. Даже и не пытался защитить старого товарища. Многолетние верные друзья выдвигали теперь перед Максом абсурдные обвинения: принадлежит, де, к «антисоветской троцкистской группе», занимается «контрреволюционной деятельностью», «шпионит в пользу фашистской Польши» и других стран Европы. Три дня он доказывал свою невиновность. Но приговор был вынесен заранее. И выше.
Ему сообщили, что он исключен из партии. Потребовали вернуть партийный билет. Отсутствие такого документа равносильно для коммуниста его уничтожению, смерти в обществе, духовному банкротству. Он утратил веру в смысл всей жизни. И будто предчувствовал, что вскоре расстанется с самой жизнью. Ведь видел же, что творится вокруг. Во время чтения вердикта Комиссии старый его друг Димитров, которого Макс вытаскивал из стольких политических передряг, отвернулся и смотрел в окно.
В воспоминаниях Мани есть еще один пронзительный эпизод, который запечатлел события уже после ареста Макса. Когда 22 июня она позвонила рано утром в гостиницу и услышала в телефонной трубке голос Стася, она сразу поняла, в чем дело. Но как помочь? Никаких влиятельных знакомых не было. На следующий день она уезжала с сыном во Францию. Откладывать отъезд нельзя. Она сама вот уже год находилась в ужасном положении. «Жюрнал де Москоу» — франкоязычная газета, в которой она работала, ликвидирована. Главный редактор Лукьянов арестован. Она без работы, живет уроками по математике. Советские власти ее просто выдворяют. Надлежит как можно скорее покинуть СССР, в Польшу ехать нельзя — польское посольство у нее — коммунистки — забрало польский паспорт. И только благодаря тому, что сын Пьер родился в Париже, она получила французскую визу, которую ей проставили чуть ли не на клочке какой-то бумажки, — никаких своих дорожных документов у нее не было. Ситуация продолжала осложняться, и отъезд — единственный шанс на спасение.
Но прежде чем уехать, во что бы то ни стало надо разыскать подружку дяди — Йошу, ведь если трагичное известие ей сообщит кто-нибудь из посторонних или недругов… Нет, сделать это должна она сама. И дать ей хотя бы немного денег, нетрудно предвидеть участь той в недалеком будущем. В тайне от всей семьи, которая не принимала этого союза, она Йошу и раньше навещала. И очень ее любила. Видела, как ее обожает Макс, с какой нежностью смотрит на своего позднего сына Петю. Знала, что их судьба не даст ей покоя.
Йоша жила с Петей на даче Коминтерна под Москвой, в Серебряном Бору. Маня поехала туда под вечер, электричкой, и вышла на маленькой станции. Ей бросились в глаза десятки одинаковых домиков. Везде одни и те же занавески на окнах, одинаковые веранды перед домами, столы и на них самовары. Отдыхавшие собирались вокруг самоваров и ужинали. Пахло соснами. Издали доносились звуки гармошки. Кто-то пел. Покой. Идиллия. Прямо Чехов. Словно сюда и не долетало эхо трагедий, которые разыгрывались совсем рядом. Но беззаботность кажущаяся. Стоило Мане лишь задать вопрос, где дом Коминтерна, как от нее шарахались: ее иностранный акцент на всех, к кому бы она ни обратилась, наводил ужас. Ей не отвечали. Никто ничего не знал. С ней просто не хотели разговаривать. Сразу видно, что чужая, а это подозрительно. Одна, а неприятностей из-за нее не оберутся все. Наконец какой-то смельчак отважился: «Это там!» — и показал дорогу.
Она открыла калитку. В светящихся окнах особняка мелькали силуэты людей. На газоне удалось разглядеть белую неподвижную фигуру. Вроде продолговатого свертка. Но только сделала несколько шагов, фигура зашевелилась. Приподнялась голова. Йоша! Она лежала на матрасе, который был прямо на траве. Рядом завернутый в одеяло спал Петя. Она бросилась Мане в объятия и разрыдалась: «Это невозможно! Невозможно! Какая-то страшная ошибка!» Уже знала. Маня пыталась ее утешить: «Конечно, недоразумение. Он вернется. Он обязательно вернется». И спросила с изумлением: «Почему вы на сырой траве, а не дома?»