
Было тяжко, душно. По небу ползли низкие темные тучи. Время от времени по ним пробегали короткие голубые отсветы далекой грозы. Под аркой Главного штаба чернели силуэты тяжелых броневиков. На Дворцовой площади, где были сосредоточены правительственные войска, горели костры, подходы к ней были перекрыты караулами. Все напоминало военный лагерь перед боем.
Машина медленно ехала через Невский, жаждавший крови Ленина. Какое счастье, что все обошлось благополучно!
Поздним вечером Владимир Ильич приехал к Н. Г. Полетаеву. Там он провел ночь, а наутро перешел на квартиру Сергея Яковлевича Аллилуева. В утренних газетах было напечатано сообщение, что Временное правительство издало приказ об аресте В. И. Ленина.
Первым душевным порывом Владимира Ильича было добиться открытого суда, явиться на суд и разоблачить клевету, превратив суд над большевиками в суд над контрреволюционным Временным правительством.
Однако большинство ближайших соратников Ленина решительно запротестовали против такого плана, считая, что отдать себя в руки властей значило бы отдать себя в руки отъявленных контрреволюционеров, которые не остановятся ни перед какой самой грязной провокацией, чтобы убить Ленина.
— Мы не выдадим Ленина, — сказал Ф. Э. Дзержинский.
— Мы протестуем против клеветнической кампании против партии и наших вождей, — поддержал Дзержинского Н. А. Скрыпник. — Мы не отдадим их на классовый, пристрастный суд контрреволюционной банды.
— Необходимо, чтобы Ленин, и живя в подполье, давал нам свои указания, — говорил Артемий Григорьевич Шлихтер. — С презрением отбрасывая клевету, мы говорим: не отдадим Ленина, — говорим не как обыватели, боясь репрессий, а как представители пролетариата, — не отдадим потому, что Ленин нам нужен…
Замысел контрреволюции был сорван! Вождь большевистской партии ушел в глубокое подполье.
Приют ему предоставил один из старейших большевистских рабочих, имя которого мы уже встречали на страницах этой книги: член Боевой организации 1905 года Николай Александрович Емельянов.
Емельянов знал, что если врагам удастся напасть на след Ленина, то вместе с ним погибнет и он, Емельянов, погибнет и вся его семья. Но без колебаний поселил Ленина на чердаке своего домика в Разливе, потом в шалаше на сенокосном участке на берегу озера.
Шалаш этот, как рассказывал Емельянов, был устроен из веток; рядом с ним на кольях висел котелок, грелся чай. Но по ночам невыносимо надоедливые комары не давали покоя, как от них ни прячься.
Весь день Ленин сидел в своем излюбленном месте, за большой ивой, и писал статью за статьей.
Лес… Кругом темнота, тишина… Все сидят у костра, греют чай, варят картошку. Вдруг Ленин задает вопрос, над которым, видимо, не перестает думать ни на секунду: «Возьмем ли мы власть? А если возьмем, то сумеем ли ее удержать?»
И, выслушав мнение присутствующих, взвешивая все «за» и «против», отвечает: «Да, возьмем! Да, удержим!»
Там, в шалаше неподалеку от Разлива, Ленин прожил ровно месяц. Месяц, каждую секунду которого его жизни грозила смертельная опасность, но он, презирая опасность, работал над книгой «Государство и революция», в которой раздумывал над не покидавшим его ни на миг вопросом: что должен делать рабочий класс, чтобы победить и удержать государственную власть?
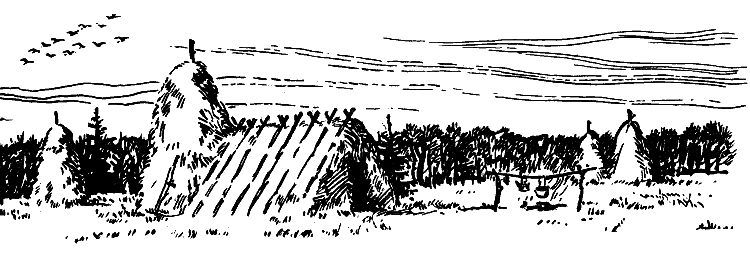
Время было тревожное. Все кругом было полно отголосками недавно пронесшихся событий 3–5 июля. В доме, где помещалась прежде «Правда», еще не были вставлены выбитые стекла.
На могиле нашего товарища Ивана Авксентьевича Воинова, убитого в июльские дни, еще не высохла земля.
И снова в тюрьмах появились политические заключенные.
На этот раз это были большевики, брошенные в тюрьмы по гнусному, ложному обвинению, что они являются германскими шпионами.
В «демократических» тюрьмах Временного правительства их встретили старые царские тюремные служаки.
Те же камеры.
Те же карцеры.
Те же нравы.
Та же тюремная похлебка, основное содержание которой, как рассказывали, смеясь, тюремные сидельцы, составляли «неразложившиеся остатки органической и неорганической природы».
Та же грубая каша, именуемая «шрапнелью».
До нас дошло несколько писем, тайно переданных на волю тюремными заключенными — большевиками:
«Утих говор, — пишет один из них, — утих сдержанный шепот, найдена удобная поза на голых нарах, и камера, только что наполненная суматохой дня, отошла ко сну. Как всегда обойденный сном, лежу я в нарном „гробу“ с открытыми глазами…»
«Дни идут за днями, так похожие один на другой, — продолжает его товарищ по тюрьме. — Оторванные от непосредственной работы, уныло томимся среди каменных стен маленьких душных камер.
С позорным пятном изменников родины брошены в тюрьмы истинные, неустрашимые борцы за родину, народ, за честь…»
Преследования против большевиков дали эффект обратный тому, на который рассчитывали те, что их затеяли: никогда процесс революционизирования масс не шел с такой быстротой. Даже самые отсталые рабочие, чуравшиеся политики, как огня, приходили к пониманию своих классовых задач.
В то время, летом 1917 года, я, автор этой книги, состояла членом социалистического Союза рабочей молодежи — одной из тех организаций, из которых в будущем вырос многомиллионный комсомол.
Среди членов Союза молодежи был невысокий шустрый паренек, которого все звали просто Ваня, а вместо фамилии Скоринко — прозвищем «Вьюнок», данным ему за необыкновенную живость, подвижность, веселую бесшабашность.
Где бы ни затевался спор, куда бы ни надо было проникнуть агитатору-большевику, перемахнув для этого через забор или же пробравшись в щель, сквозь которую, казалось, могла пролезть только кошка, Ваня Вьюнок был тут как тут. Он не боялся ни бога, ни черта, ни пушек, ни пулеметов, пошел бы один против целой дивизии, но испытывал невероятный, прямо панический страх перед своим отцом.
Отец этот, рабочий Путиловского завода, суровый, богобоязненный, воспитывал свое единственное чадо «в строгости»: учил сына, что от поклона хозяину голова не отвалится; что политики — болтуны и балаболки, а истинный рабочий должен надеяться только на свои руки. В 1905 году отец на некоторое время поверил Гапону, но разочаровался в нем, а вместе с ним и во всякой революции.
Легко представить себе его гнев, когда весной семнадцатого года он узнал, что сын Ваня «записался в большевики».
Отец категорически запретил Ване «бегать по собраниям» — тот продолжал. И тогда отец, нимало не смущаясь тем, что Ваня уже член партии, приказал сыну спустить штаны и отлупил его ремнем по соответствующему месту.
Вскоре после июльских событий дело приняло острый оборот: проходя неподалеку от Невского, Ваня увидел двух безногих инвалидов, которые, громко клянясь и призывая в свидетели бога, рассказывали, что сам Ленин предлагал им за вступление в большевистскую партию по миллиону рублей германским золотом.
Ваня стал ругать инвалидов, изобличая их в гнусной лжи. Но тут появились милиционеры Временного правительства. Ваню арестовали, отвели в участок, избили, продержали ночь, а утром вытолкали в шею.
Теперь-то настало для него самое страшное: весь дрожа при мысли о предстоящем разговоре с отцом, брел он домой. Но решил рассказать всю правду. И в минуту, когда рассказ дошел до ареста и избиения в милиции, услышал гневный голос отца:
— Ах ты паршивец!
Ваня был убежден, что гроза отцовского гнева обрушится на него за то, что он, Ваня, встал на защиту большевиков. Но нет.
— И ты стерпел, паршивец! — бушевал отец. — Да ты обязан был этим иродам в рожу дать! Чернильницей! Револьвером! Стулом! Рабочий не должен терпеть удара от буржуя. Ударил — получай обратно!
Но тут в диспут вступила мать.
— Вот старый дурак! — накинулась она на отца. — Сам выжил из ума и сына хочет за собой утопить. Большевики! Скоро сын без головы придет благодаря папаше. Офицеры оторвут.