
За невыполнение «урока», а также за любое неповиновение конвою полагалось пороть розгами. Концы длинных, полуторааршинных розог вымачивались в соленой воде, чтобы усилить боль от порки.
Кроме того, существовал ряд способов издевательства и мучений, изобретенных здесь, на «Колесухе». Самый знаменитый из них носил название «На москитах». В тех местах по утрам, до восхода солнца, так много мошкары — москитов, что без сеток выходить нельзя. Конвоиры раздевали наказываемого донага и привязывали к дереву, а потом, распухшего, искусанного москитами до открытых ран, гнали на работу.
Зимой, когда москитов не было, обнаженных людей выгоняли на мороз и обливали водой.
Но были среди каторжного начальства и не просто звери, а звери из зверей, хваставшие тем, что они одной пулей пронизывают по двадцать заключенных. Недаром человек, побывавший на «Колесухе», сказал о ней, что она «от края и до края полита человеческой кровью».
Сначала на «Колесуху» посылали только уголовных. Но после 1905 года туда стали гнать и «политику» — матросов, солдат и рабочих, которые составляли большинство в каторжных тюрьмах, а также и студентов, учителей, статистиков. От единиц перешли к десяткам, от десятков к сотням.
Так попал на «Колесуху» писатель Андрей Соболь, которого до конца жизни преследовали страшные воспоминания.
Первого представителя «Колесухи», начальника конвоя Лебедева, Андрей Соболь увидел в Сретенске.
— Шапки долой! Смирно!
«Шелест. Сотни рук одним взмахом поднимаются, сотни шапок снимаются одним мигом, и горе тому, кто зазевался, кто не успел: лебедевский кулак сметает несчастную шапку, как пушинку, а неповоротливый хозяин валится наземь.
Мертвая тишина, ни шороха, ни вздоха, ни движения — вся партия, как один человек, замирает на месте. И, замерев, обязана выслушать речь начальника: он любит поговорить и говорит красно о „внутренних врагах“, о „жидах“, о благости самодержавия и прелести дисциплины, о „мерзавцах“, восставших против бога и царя…»
Дальше — десять суток в трюме баржи, плывущей по Шилке. И вот она, «Колесуха».
Здесь, рассказывал Соболь, нет «живой» жизни, как нет живых людей, а есть ходячие трупы; вообще нет «людей», а есть числа, номера, манекены с ярлыками: уголовный, политик, бывший студент, бывший агроном, бывший учитель. На «Колесухе» не говорят, а шепчутся; на «Колесухе» не спят, а тяжко дремлют с готовностью в любую минуту вскочить; на «Колесухе» не умываются, а чешутся; на «Колесухе» не едят, а торопливо, обжигаясь, глотают; на «Колесухе» нет ни норм, ни закона, ни правил, ни обычаев, а есть только разнузданное «хочу» любого солдата, любого надсмотрщика… И мошкара — мелкая, злющая, тучами облепляющая лицо, руки, ноги…
Некоторых тюрьма и каторга ломала. Некоторые, не выдержав, кончали с собой. Тюремщики смотрели сквозь пальцы на самоубийства заключенных и беспокоились разве лишь о том, чтоб, вешаясь, они не порвали казенные полотенца.
Но большинство выдержало.
Когда, по указанию свыше, тюрьму и каторгу стали «брать на винт», то есть туго закручивать режим, это было встречено ожесточенным сопротивлением со стороны заключенных. Особенно острой была борьба матросов и солдат, которых судили за участие в вооруженных восстаниях. Тюремная администрация стремилась приравнять их к уголовным. Они решительно сопротивлялись. Это приводило к многочисленным столкновениям, которые нередко заканчивались трагедиями.
К карцеру и поркам тюремщики прибавили теперь наказание «уткой»: повалив людей на пол, надзиратели загибали им ноги за спину и, вывернув руки назад, привязывали кандальным ремнем к локтям.
Закончив срок, каторжане уходили не на волю, а в ссылку или на вечное поселение. Но после нескольких лет, проведенных в каменном мешке, даже это казалось огромным счастьем.
«Свобода! Свобода! — писал Алексей Ведерников-Сибиряк на пути из Ярославского каторжного централа в енисейскую ссылку. — Скоро буду бродить совершенно свободно без надзирателя по родному сибирскому лесу. Мне даже кажется как-то странным идти куда захочется, без надзора. А окна будут без решеток — и если вздумается, то можно в любое время вылезти в окно. Вам может показаться смешным, но я серьезно говорю, что после шести лет сидения за решеткой, когда я впервые после освобождения шел по улицам Ярославля до вокзала и видел в домах окна, я считал их не настоящими, а устроенными только для украшения, так как они были без решеток и на них были навешены занавески и наставлены цветочные горшки».
«Дальше едешь, тише будешь» — так русское самодержавие переделало на свой лад старую пословицу «Тише едешь, дальше будешь». Как никогда, широким потоком шли ссылаемые в места «отдаленные» и «не столь отдаленные». Вроде Березова, куда Сергей Иванович Гусев попал без малого два столетия спустя после Меньшикова, но застал там все почти в таком же виде, как было при опальном царедворце: сотня домишек, две церкви, кладбище, деревянная каланча.
«И всё! — пишет Гусев товарищу по тюремной камере. — Все это можно обойти в десять минут: все улицы, все лавки, церкви, каланчу, кладбище…»
Гусев тяжело болен. У него нет денег, нет книг, нет газет. Но и теперь, по собственному его признанию, он не разучился хохотать, находить смешное или же изобретать его в случае надобности.
Так, описывая в одном из писем свою «деятельность на поприще пропитания живота своего», он заключает этот рассказ следующим выводом:
«Замечательнее всего, что я обнаружил в кулинарном деле неожиданные для самого себя таланты. Вероятно, во мне погиб гениальный повар, и несомненно, что среди марксистов я наилучший повар и среди поваров — наилучший марксист».
Тяжел путь в ссылку.
Зимой он совершался на лошадях, частью по льду рек, частью лесными дорогами по сплошной пустыне, а летом — сплавом на паузках — деревянных суденышках, похожих издали на плавучие гробы.
«Бесконечная лента Лены — единственный путь, соединяющий цивилизованный мир с якутской пустыней, — писал М. С. Ольминский. — И зимой и летом некуда свернуть с Лены, кроме как в безлюдную тайгу и снеговую пустыню. И люди, и даже перелетные птицы не знают иного пути с юга на север на протяжении трех тысяч верст…
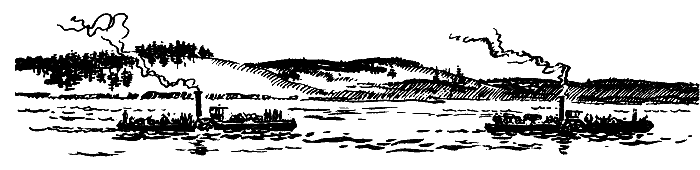
Уже вторую неделю плывут паузки, а конец еще далеко… На склонах всюду один и тот же бесконечный лес, сибирская тайга, успевшая зазеленеть за время нашего плавания. Река повернула на северо-восток, и невольная жуть охватывает при мысли, что направо от тебя, до самого Великого океана, протянулось безлюдье. И будешь плыть так все дальше и дальше, пока паузок не выбросит тебя на одно из грязно-серых пятен, к которому ты и будешь привязан на многие годы.
И вот, несмотря на всю прелесть весны среди дикой природы, мысль настраивается враждебно к ней, а голова работает над вопросом, как бороться… Родятся и обдумываются планы побегов…»
Наконец паузок причаливает к пункту назначения. Сквозь мглистый утренний туман чуть темнеют очертания сараев и хозяйственных построек. Само село не видно.
Суетятся конвойные. Заспанный и недовольный волостной пристав в четвертый раз пересчитывает новоприбывших ссыльных.
На вопрос, можно ли тут найти квартиру, насмешливо отвечает:
— Вот тебе тайга, вот тебе река: хотишь — давись, хотишь — топись…
Так начиналась жизнь в ссылке, которую недаром прозвали «тюрьма без решеток».
Разбирая архивы, перечитывая письма и воспоминания, обнаруживаешь интересное явление: многим ссылка давалась тяжелее, чем тюрьма и каторга.
В чем тут причина? Прежде всего в том, что на каторге люди были в коллективе, и те страдания, которые они переносили, объединяли их между собой.