Юность в Железнодольске
Творчество Николая Воронова кровно связано с Уралом, где прошли детство и юность писателя.
Роман «Юность в Железнодольске» — художественное исследование судеб нескольких поколений крестьянских семей, в голодные и яростные годы предвоенных пятилеток влившихся в ряды уральского пролетариата, самоотверженным трудом приближавших победу над фашизмом.
В повести «Лягушонок на асфальте» Николай Воронов рассказывает о новом поколении уральских металлургов, о тех, кто сегодня сменяет у домны и мартена ветеранов отечественной индустрии.
Глубокое знание тружеников Урала, любовь к истории и природе этого уникального края, острая постановка социальных и нравственных проблем сочетаются в этих произведениях с тонким психологическим письмом, со скульптурной лепкой самобытных характеров.



ЮНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОЛЬСКЕ
Роман
Татьяне Вороновой посвящаю

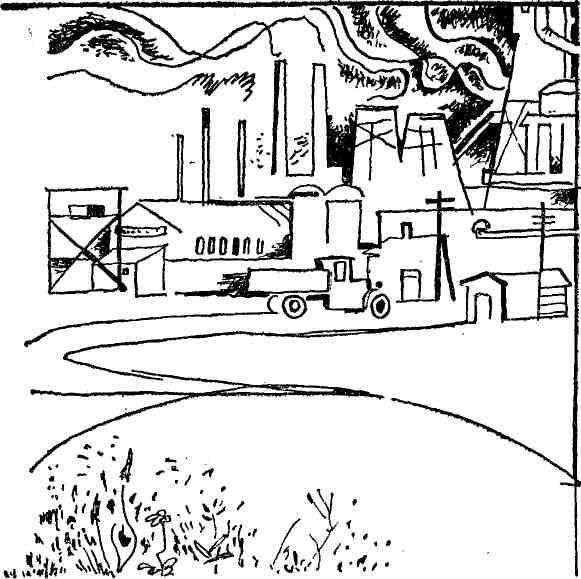
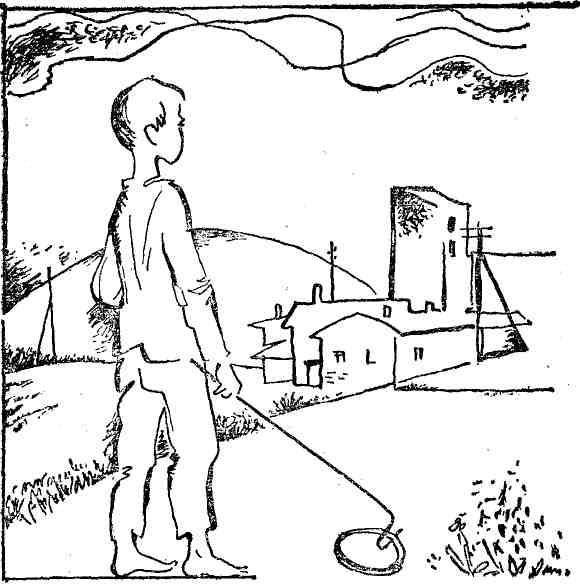
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
«Ракитники, ракитники — серебряно весло. Не видели, ракитники, ку-у-ды Маню унесло?»
Давно не вспоминались Марии эти слова из маминой сказки. С того дня, пожалуй, не вспоминались, когда крестная с крестным везли ее из станицы Ключевской на Золотую Сопку, маленькую станцию под уральским городом Троицком, чтобы выдать замуж за вдовца Анисимова, работавшего на путях
Плакала тогда Мария. Увозят от матери с братом в незнакомые люди. Ничего веселого не видела. Без отца росла. Только изредка приезжал на побывку, весь в касторовом, ремни вперехлест. Качал на коленях, песенку пел: «Зеленая веточка над водой стоит». Так и не довелось пожить вместе: то германская, то гражданская. Сдался в плен красным. Тифом заболел. Два товарища, тоже казачьи офицеры, оставили в татарском ауле, где — и сами будто бы не помнят. Скорей, нигде не оставляли, просто выбросили из розвальней за придорожный сугроб.
Сколько смертей было у нее на глазах. Столько несчастий пролегло через душу.
«Ракитники, ракитники — серебряно весло. Не видели, ракитники, ку-у-ды Маню унесло?»
Сейчас они и впрямь серебряные. Полощутся верхушками. Шелестят. Встанешь в рыдване, засмотришься — уходит их светлое колыхание под синий холм.
А когда ее везли выдавать замуж, то горели ракитники.
— Пластают, — говорила крестная.
— Пластают, — повторял крестный.
Огонь трещал и хлопал. И хотя вдоль дороги неблизко тянулись те ракитники, с обочин наносило сильнущим жаром, и Мария падала на дно плетеного ходка, лежала, пока не переставало припекать.
Было на ней кашемировое платье, собственность Елизаветы, жены оружейного мастера Заварухина.
Пропьют Марию крестная с крестным, заберут платье, и опять ей носить кофту и юбку из мешковины, если муж (материю по карточкам получает) не обрядит во что другое.
То ли судьба, то ли случай: и тогда было голодно, и теперь голодно. Ну да ничего. Раз девчонкой не пропала, то и сейчас не пропадет. Страшней того, что хлебнула за свои двадцать три года, уже, наверно, не хлебнет.
Не за себя ей боязно — за Сережку. Маленький и ужасно совкий. Руку чуть в веялку не засунул. Со скирды шмякнулся. Кабы знахарка Губариха не накидывала горшок на животишко, ходил бы всю жизнь наперелом и неба не видел.
— Марея, верховой навстречу. Никак в черной коже? Кабы не Анисимов?
— Не должен...
— Поди, учуял неладное. Аль по трубке сообщили.
— Савелий Никодимыч, ты не останавливай. Как едешь, так и езжай.
— Не обессудь, Марея, не супротив...
— И что вы все его боитесь?
— Не все, кому нужно — те.
— Лоза вы — не казаки.
Перерушев, сидя правивший бокастой жеребой кобылой, обернулся. В Ершовке, откуда они ехали, его считали с м и р е н н ы м, но боялись взгляда дегтярно-темных глаз.
— Папка скачет! — воскликнул Сережа.
Она и сама узнала Анисимова. На белом коне. В поблескивающей на солнце кожанке — вчера целый вечер начищала угарной ваксой. Нахохлясь, подскакивает в седле, чуть-чуть вправо скошено туловище.
Села на сундук. Куда деться? Была бы одна — кинулась бы в ракиту. С мальчонкой не кинешься. Напугаешь его. Да и не спрячешься: крикнет отец — отзовется. Несмышленыш: гарцует на сундучной крышке.
Испугалась Мария. Выхватит Анисимов сына из рыдвана — и поедешь туда, куда он поскачет. Поймала Сережу, стиснула меж колен. Брыкался, егозил:
— К папке, к папке!
Перерушев начал насвистывать, будто его совсем не тревожит приближение Анисимова.
Оторопь Перерушева обернулась в Марии гневом: яицкие казаки, испокон веку храбрые люди, и те страшатся Анисимова. Она вот не испугается.
На лице приближающегося Анисимова была веселая улыбка. Мария оробела, как только он, близко подскакав и остановив коня, принялся нахваливать Перерушева за то, что он не забывает добра. Не поверила Мария этим похвалам: с улыбки Анисимов затевает ссору, где не он владеет яростью, а ярость им.
Голова Перерушева опущена. Кулаки, держащие рыжие волосяные вожжи, приподняты. Показывает, что не намерен разговаривать.
Сына и жену Анисимов не замечает. Белый иноходец, рвущийся в бег, кольцом ходит по дороге, задевая крупом Чирушку.
И вдруг по глазам Марии вскользь прошел металлически яркий взгляд мужа, словно саблей полоснули около лица.
Огромная, атласно-голубая, во впадинках грудь коня надвигается на Чирушку, боязливо пятящуюся и отгибающую морду.
Рыдван опрокинулся, и Мария увидела черноту, как бы затмившую ее сознание. Опамятовалась, уже стоя на ногах и крича:
— Сережа, где ты?
Рядом в своей домотканой коричневой рубахе, окрашенной в отваре ольховой коры, зачем-то двигал затвор берданки, наверное загонял в ствол патрон, Перерушев. Он по-бабьи приговаривал:
— Убил, убил...
Мария не могла понять, кого убили и где она находится. Но едва Перерушев прицелился, с колена куда-то вверх, сообразила, в кого он метит.
— Брось! Брось винтовку!
Берданка, застывшая было в воздухе, встала торчком, из дула пыхнул дымовой ободок. Через мгновение возле оскаленной морды коня Мария увидела Анисимова, потрясение смотрящего куда-то за нее. Ой, Сережа! Зажал ручонкой нос и рот, по рубашке — ручьи крови. Подняла Сережу.
За спиной голос Перерушева:
— Ых ты, голова — два уха. Чё наделал? Прочь. Стрелю.
Заревел Сережа. Неужто разбился? Неужто скакать в больницу? Принялась утирать кровь. Как с облака, с иноходца Анисимов:
— Маруся, я не хотел... Сережа, я не... Маруся, на платок.
Мария резала вгорячах то, на что раньше лишь решалась намекать. Старый. Постылый и ей и людям. Жалко, что мазали по тебе кулаки.
Уже не с берданкой — с толстым красноталовым прутом появился Перерушев. Хлестнул с потягом по гладкому боку белого коня. Потом замахнулся на Анисимова, но ударить не осмелился, только велел, чтоб катился отсюда вслед за своим иноходцем, скачками убегающим в сторону Ершовки.