Владимир Михайлович Шимкевич, человек пожилой, отяжелевший, с многоумным большим лбом, принял меня вежливо, выслушал, только потом взял письмо Ютнера, прочел его и удивленно поднял брови:
— Охранять зубров в великокняжеской Охоте? Там, где зверя разводят, чтобы убивать ради удовольствия? От кого же вы собираетесь охранять зубров?
— От всех, кто хочет их убить.
— Не понимаю. Вы егерь, так? Значит, охотник, стрелок, ваша задача — навести высокопоставленного гостя на дичь, на зубра в том числе.
— Не совсем так, — сказал я. — Моя задача — спасать зубра. За последний наезд охотников Кавказ потерял только одного зубра.
— И это стараниями Ютнера?
Точно ответить я не мог, просто сказал, что в Охоте достаточно людей, которые готовы защитить природу и зубров.
— Счастливое открытие, молодой человек! Я готов оказать вам всяческую помощь, — с подъемом сказал зоолог.
Этот добрейший ученый еще целый час расспрашивал меня о Кавказе, Ютнере, егерях. Потом повел в библиотеку и для начала снабдил целой связкой книг, о существовании которых я и не подозревал. Он пригласил меня по мере возможности посещать лекции на его кафедре, университетский музей, библиотеку.
— А Ютнеру я отвечу без промедления, — произнес он, уже прощаясь. — Вы когда в родные края?
— После окончания курса. В июне.
— Дело в том, что на Кавказ вновь собирается Николай Яковлевич Динник, большой знаток местной фауны. Очень рекомендую побродить с ним по горам. Узнаете много сокрытого, необычайно интересного.
Я обещал встретиться с Динником.
Саша оказался дома. Похоже, что он только что явился; был взволнован, глаза его горели.
— Слушай, — вдруг сказал он, понизив голос, — давай условимся: если кто тебя спросит, скажешь, мы вместе ходили в университет.
— Хорошо. Но ты мог бы объяснить…
— Потом, потом!
И уселся за книгу, обхватив ладонями голову, словно бы отгораживаясь от всего света.
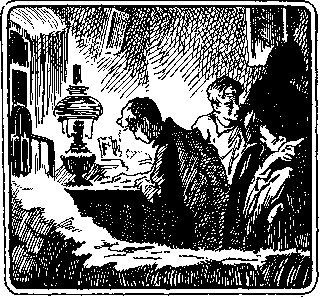
К счастью, никто ни о чем меня не спрашивал. И Саша как будто забыл, что хотел объяснить. Вторую свою жизнь он скрывал даже от меня.
Теперь мы соревновались с ним в усидчивости и поглощении книг. Сознаюсь, что чем больше нового узнавал я, тем дальше раздвигались горизонты зоологии, в сущности пока неизвестной для меня науки. Впервые я отчетливо понял, что у знания нет и не может быть завершенности. Как нет и быть не может конца у самой жизни.
Летели дни, недели, месяцы.
Письма…
На первое мое письмо Данута ответила так:
"Знаешь ли ты, что теперь я ненавижу дороги? Как увижу тракт или проселок, так ловлю себя на мысли, что они-то и есть виновники нашей разлуки, — по одной из них уехал ты.
Что рассказать о своей жизни? Каждое утро в прохладном классе я собираю тридцать учеников, и мы с ними начинаем говорить о грамоте, об их будущем, о месте в жизни. Любопытные глазенки ребят загораются великим желанием познания. И тогда я им читаю, и тогда они сами всматриваются в печатные знаки, постигая таинство сложения звуков в слова и понятия. Ты бы слышал, с какой душевной радостью Маша, Федя или Кланя впервые читают, запинаясь и повторяя слова: «Встань поутру, не ленись, мылом вымойся, утрись, кто растрепан, неумыт, тот собой людей смешит…» И я радуюсь вместе с ними, а после уроков иду в дом, где живут те же Маша, Федя или Кланя, чтобы вместе с родителями еще раз пережить эти приметы рождения человека сознательного.
И свободные часы есть у меня, но я стараюсь никуда не ходить, беседую с хозяином Федором Ивановичем Крячко, у которого квартирую; читаю, вышиваю и все думаю о тебе: что ты делаешь вот сейчас, где находишься, с кем говоришь? Я даже разговариваю с тобой, придумываю за тебя слова и мысли.
Сразу после уроков в субботу я уезжаю к тете. Часто тайком, чтобы избежать назойливого предложения известного тебе человека воспользоваться его пролеткой, его хорошими конями.
У тети я отдыхаю безмятежно и счастливо, как птенец под крылом птицы. Случается, по воскресеньям, иду к Софье Павловне, мы обедаем с твоими славными стариками, и Михаил Николаевич обретает внимательных слушательниц, коим он подробно повествует картины последних годов неистового Шамиля.
Почему наша почта движется так медленно? Восемь дней до тебя. Восемь — в обратном направлении. Опять виноваты дороги! Дороги-разлучницы. Дороги, способные украсть даже надежду…"
В одном из ответных писем я поделился с Данутой новостями, которые услышал на лекциях, особенно подчеркнув удивление зоолога Шимкевича, когда речь пошла о сохранении зубров. Она мне написала:
"Андрюша, я так понимаю твоего нового учителя, зоолога Шимкевича! Люди издавна считают, что охота, вообще уничтожение зверя и птицы — неважно, ради пищи, ради удовольствия или как дань некоей первобытной страсти, — является частью увлекательной жизни, азартом, без которого эта самая жизнь обедняется. А тут вдруг какие-то служащие в Кубанской охоте ставят перед собой прямо противоположную, очень странную на первый взгляд задачу: сохранить зверей, прежде всего зубра, не допустить охоты на него! Есть отчего удивиться!
Ты прав: очень тревожно, что зубры остались только в двух местах Европы. Как бы там ни было, но твое согласие приложить свой труд ради сохранения этого зверя вызывает во мне большую гордость. Благородное дело. Судьбе угодно было познакомить меня с человеком, который стремится к завидной цели: соблюсти для потомства реликтовых зверей. Стать хранителем природного чуда. Знаешь, я горжусь тобой!
Когда я высказала некоторые из этих соображений известному тебе человеку (он все-таки навязался ко мне в гости, пришел на лабинскую квартиру, и ни я, ни хозяева не могли воспрепятствовать этому визиту), так вот, когда я рассказала об этом, он сощурил высокомерные глаза и произнес сквозь зубы только одно слово: «Утопия». Слышал бы ты, с какой интонацией произнес! Спорить с ним я не стала, это заняло бы много времени, а мне хотелось, чтобы он скорее ушел.
С постоянным волнением, размышляя, наслаждаясь, страшась чего-то и надеясь, я читаю твои письма. И все-все вижу, а не только то малое, что нахожу в строках. Вижу тебя, твое лицо, когда ты в аудитории, твое лицо над книгой, твою улыбку в компании друзей. У вас в столице есть, должно быть, фотографические мастерские. Ну конечно! Пришли, пожалуйста, свой снимок. Пришли!"
Читая и перечитывая письма Дануты, я считал дни, оставшиеся до нашей встречи. Сто сорок дней. Уже наступил вьюжный февраль, за окнами тонко и злобно поет ветер, бросает в стекло охапки снега. Сто семнадцать… Над Петербургом все чаще проглядывает солнце, и тогда все в блеске: улицы, окна, шпили, памятники, сама Нева. Весна, сотканная из света. Сто три дня… Наконец менее ста!
Работаю каждый день с утра до полуночи. Все вечера отдаю зоологии. Внимательные мои шефы подбирают для меня литературу таким образом, чтобы я усваивал курс науки, как он подается для университетских студентов-зоологов. Учеба в Лесном институте идет своим чередом, здесь особенных трудностей нет.
Начиная новое письмо Дануте, я так и пишу: «Осталось девяносто шесть дней». Когда она отвечает, то приписывает: «Осталось восемьдесят семь и еще дорога до Псебая…»
И вдруг происходит что-то непонятное. Нет писем. Перестали приходить. Три, пять, девять дней. Нет и нет. Я посылаю домой депешу, полную тревоги. Такое же послание идет в адрес тети Эмилии. Молчание, тем более непонятное, что последнее письмо Дануты дышало бодростью, было веселое, до краев наполненное нежностью и надеждой.
Саша переживает вместе со мной. Ежеутренне он сочиняет более или менее приемлемую версию, мы обсуждаем ее и отвергаем. Что-то случилось. Но что?!
Терпение мое на исходе. В одно очень тоскливое утро я говорю Саше: