— По глазам, по глазам смотрите, — уходя, наказал тот.
Дежурному по комендатуре приказано было сейчас же увести этого юродивого в больницу, там и держать, чтобы не болтал по городу, будто при генерале Пепеляеве состоит какой-то сукин сын, души не имеющий.
Пепеляев встал, походил по кабинету, остервенело распинывая вылезшие из гнезд паркетины. Мерзко было на душе. Да, он победил — взял город, захватил мост и плацдарм на правом берегу, если собрать корпус в кулак, — можно наступать дальше на запад, к Глазову и Вятке, а там рукой подать до Котласа, до Архангельска, англичане по Белому морю все подвезут, кроме валенок; соединиться с Северной армией и — на Москву. Все так, но на душе мерзко. Как же вышло, что он, генерал Пепеляев, с протянутой рукой стоял перед теми, кто ему по гроб жизни должен быть благодарен, ради кого он мерз, не досыпал, питался гнилой селедкой, шел под пули? И чего добился? Такие, как Мурзин, высаживая стекла в оранжерее, думают согреть оранжерейным теплом всю Россию, а эти под шумок строят себе теплицы из осколков. Или идиоты кругом, юродивые, как этот Гнеточкин, лупоглазые фанатики, или выжиги, рабья кровь. Скорей бы уж на фронт!
Стол завален был ворохом поздравительных телеграмм, пришедших со всей Сибири от всевозможных дум, комитетов и частных лиц: молимся за победу, примите сердечные, гордимся доблестным Средне-Сибирским и прочая. Быстрым движением руки Пепеляев смел их со стола. Грюш цена этим бумажкам, как дойдет до дела, никто ни копейки не даст. Телеграммы разлетелись по кабинету, усеяли пол; с наслаждением сминая их сапогами, Пепеляев прошел в коридор, затем во двор, вскочил в седло и один, без конвоя, поскакал к вокзалу Горнозаводской ветки.

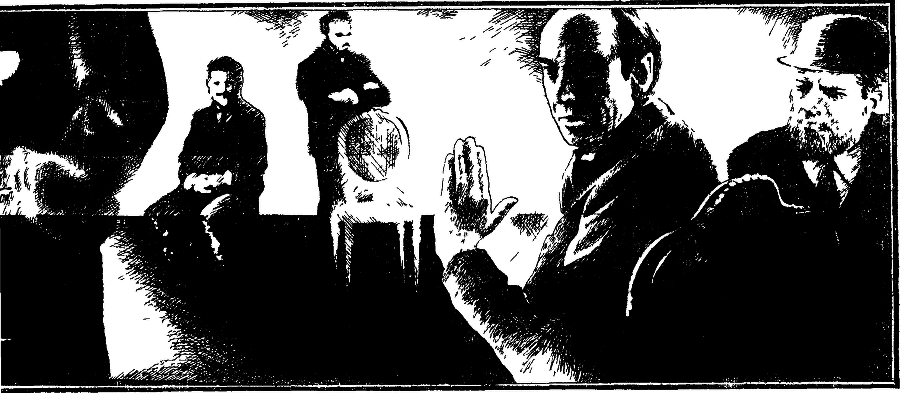
Как сообщил Валетко, со станции Левшино пригнали два эшелона с пленными красноармейцами числом до полутора тысяч. На месте обнаружилось, однако, что вовсе это не красноармейцы, а просто солдатики, уроженцы сибирских губерний, они возвращались домой из германского плена и под Пермью задержаны были боями на магистрали. Начальник штаба предлагал всех их мобилизовать, но Пепеляев счел опасным держать вблизи линии фронта этих людей, наверняка распропагандированных большевиками. Он распорядился беспрепятственно пропустить эшелоны на восток и телеграфировать генералу Голицину, дабы тот их задержал и рассовал по тыловым частям.
Правда, немного утешила другая новость: на складах губснабжения нашли семь тысяч пар новых валенок. Пепеляев вспомнил виденных позавчера убитых из 29-й дивизии — они лежали на снегу в лаптях, в ботиночках, просто в намотанном на ноги и подвязанном веревками тряпье — и подумал, что, видать, появились и у большевиков свои чиновники. Это радовало не меньше, пожалуй, чем захваченные валенки. Вообще все яснее становилось, что трофеи достались богатые — оружие, снаряжение, продовольствие, можно бы и наплевать на купеческие рубли, на пропавший перстень. Пропади они пропадом, выжиги! Но спускать не хотелось.
Пепеляев медленно ехал по Сибирской вверх к губернаторскому особняку, потом гикнул и пустил Василька вскачь.
— Ну, господин Мурзин, — сказал Грибушин, — насколько я понимаю, вы — калиф на час. Не теряйте времени.
С проницательностью опытного коммерсанта, привыкшего распознавать подлинные отношения между людьми, какими бы словами ни прикрывались эти отношения, он сумел правильно истолковать ситуацию. И Ольга Васильевна женским чутьем поняла: этот альянс между Пепеляевым и Мурзиным — временный, непрочный. Но остальные, в том числе и Шамардин, сильно встревоженный тем, что генерал за него не вступился, к новому представителю власти отнеслись вполне серьезно, с уважением: есть, значит, на то свои причины. Фонштейн, принося тысячу извинений и благоразумно избегая слова «контрибуция», начал выяснять, будет ли предъявленный им вексель зачтен за добровольное пожертвование в пользу воинов-освободителей в том случае, если перстень так и не сыщется. И Каменского занимал тот же вопрос, но применительно к подписанному им обязательству уступить «Людмилу» Сыкулеву-младшему.
— Я свою долю внес, — говорил Каменский, — и знать ничего не знаю. Сами виноваты, что не уследили.
— За вами уследишь, — сказал Шамардин.
Несмотря на грибушинский совет, Мурзин пока выжидал, не торопился. Двое самооборонцев, раненый пулеметчик и китаец Ван-Го, невидимые, с надеждой смотрели на него, а он верил в свою удачу и не торопился.
Час назад, в генеральском кабинете, нахлынул азарт, как позавчера, на камском льду, когда вдруг выхватил револьвер. По-пацаньи захотелось показать себя, утереть нос генералу. Мол, знай наших! Но, поостыв, начал торговаться. Четыре жизни потребовал он взамен, ставя залогом собственную, и это красная цена сыку-левской побрякушке, сколько бы она ни стоила. И уж вообще не имела цены возможность посрамить генерала, чтобы уразумел, с кем воюет. Его честному слову Мурзин доверял, но на всякий случай пожелал услышать обещание при свидетелях. Поколебавшись, Пепеляев позвал двоих офицеров: дежурного по комендатуре и поручика Валетко и дал слово при них…
Минут десять прошло, и поскольку Мурзин молчал, купцы начали постепенно забывать о его присутствии. Грибушин, склонившись к Ольге Васильевне, вполголоса рассказывал о своем путешествии в Японию, где он изучал правила чайной церемонии, о том, что адмирал Колчак, тоже несколько месяцев проживший в Японии, проявляет, как слышно, большой интерес к чайному обряду.
— Вот вам и повод рассказать ему о здешнем самоуправстве, — сказал Каменский, но ответом удостоен не был.
Грибушин с Ольгой Васильевной, будто отгороженные незримой стеной, ни на кого не обращая внимания, разговаривали как у себя дома. Каменский, не принятый в их компанию, с завистью поглядывал на Грибушина.
Сыкулев-младший, угрожающе нависая над Константиновым, сипел:
— Тридцать три тысячи! Язык-от не отсох? Да я за него сорок платил!
— Тридцать три и ни копейки больше, — твердил Константинов. — Возможно, вас обманули, господин Сыкулев.
— А ваш перстень действительно стоил сорок тысяч? — спросил Мурзин.
— Вот те крест, сорок!
— Тогда почему принесли именно его?
— Ты еще спрашиваешь? Сам все отнял и еще спрашиваешь?.. Всякую шваль собрали, — закричал вдруг Сыкулев-младший, в упор глядя на Каменского, — ясно дело, покрадут! Чего ногой-то зудишь, а?
— Отойдите от греха подальше, — сквозь зубы проговорил Каменский, однако ногой трясти перестал.
Мурзин вспомнил, что эти двое — давнишние конкуренты. Лет десять назад оба держали свои пароходы на ближних пассажирских линиях и сферы влияния поделить никак не могли. За их борьбой следил весь город, многие бились об заклад, ставя на одного из них, и летними вечерами, когда Мурзин возвращался с завода домой, Наталья докладывала ему, что еще предприняли Каменский или Сыкулев-младший, переманивавшие друг у друга пассажиров. Один свои пароходы раскрасил, как игрушечные, и другой не отстал. Один приобрел новые скамьи, и другой заказал точно такие же. У обоих буфеты с пивом, медные поручни блестят, как на броненосце, капитаны ходят в адмиральских фуражках. Каменский на палубах граммофоны поставил, чтобы ездить веселее, и Сыкулев-младший тут же перенял. Но ни тот, ни другой победить не могут. Наконец прибегли к последнему средству: стали снижать цены на билеты. Каменский на копейку сбавит, Сыкулев — на две, Каменский — на три, а Сыкулев уже целый пятак скостил, и отставать нельзя. До того дошли, что чуть не в убыток себе пассажиров начали возить. Лишь тогда спохватились и решили установить твердые цены, у обоих одинаковые на всех маршрутах. Заключили договор, при свидетелях ударили по рукам, Сыкулев-младший спокойно уехал на север скупать пушнину, а когда вернулся и сошел на берег, то глазам не поверил: его пароходы стояли пустые, народ валом валил к сопернику. Как так? Почему? Значит, нарушил, подлец, договор, переступил рукобитье? Прямо с пристани побежал узнавать, и, ходили слухи, едва кондрашка его не хватила, как узнал, почему. Оказывается, всего лишь бублик положил Каменский на свою чашу весов, и она перетянула: каждому пассажиру, куда бы тот ни ехал, впридачу к билету выдавалось еще и по бублику. Грош ему цена, а обернулся тысячными прибылями. Эх, Сыкулев! Надули тебя, вспомнил Мурзин.