Вольфганг Хельд
Проверка на твердость
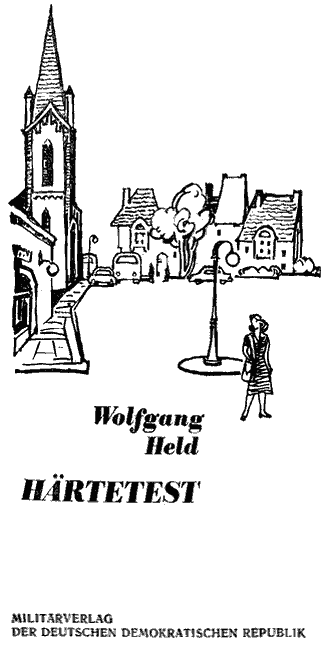
Среда, 25 июня, 16.25
Молодая женщина с трудом сдерживалась: желание наступить толстяку на ногу росло с каждой остановкой. Трамвай, как обычно в праздничные вечера, был полон, и толстяк буквально висел, держась за петлю, зажатый между молодыми длинноволосыми парнями с портфелями и пластиковыми сумками. Он невинно смотрел в окно поверх ее головы, нахально прижимаясь в то же время бедром к ее полным, тесно сжатым коленям. Она зло посмотрела на него снизу вверх, но он лишь безразлично скользнул по ней взглядом и вновь уставился на мелькающие снаружи фасады зданий. Нажим его бедра усиливался.
«Если он не прекратит, я наступлю ему на ногу, — подумала молодая женщина, — и сделаю вид, что это не я. Сейчас он взвоет от боли, противный мопс!»
— Площадь Юрия Гагарина, — прохрипел репродуктор.
Трамвай остановился. Трое пассажиров выскочили — напор несколько уменьшился, — но на их место тут же втиснулось пять новых. Среди них лейтенант с завешенной тканью клеткой, молодой папа с маленькой дочкой на руках и с сыном, которого он держал за руку. Трамвай тронулся, и грохот колес заглушил все голоса внутри вагона:
— Вы можете себе представить: спаржа средь бела дня! Отличная желтая спаржа!
— Нигде не найти зубной пасты!
— Ох! — простонал внезапно толстяк и подвинулся на несколько сантиметров, но головы не повернул. В его болезненном стоне прозвучали нотки триумфа: ему удалось наконец поставить ногу между открытыми теплыми коленями молодой женщины.
Дорис Юнгман, которой несколько недель назад исполнилось двадцать лет, не была жеманницей и недотрогой. Она знала, как вести себя в подобных случаях. Ей было хорошо известно, что наглецам нельзя давать спуску. Нужно было показать этому хаму, что здесь он найдет достойный отпор и безнаказанным не останется. То, что она наступила ему на ногу, не подействовало.
— Эй, вы! — окликнула она его.
Толстяк посмотрел на нее и ухмыльнулся. Дорис улыбнулась и с быстротой молнии отвесила ему пощечину.
Нахал зашевелил губами — от изумления он не мог произнести ни слова, только с беспокойством оглядывался, всматриваясь в лица любопытных пассажиров. Длинноволосые вытянули шеи.
— Ну что? — спросила Дорис, все еще улыбаясь.
— Какая наглость! — пробормотал толстяк и отодвинулся от нее.
Длинноволосые сразу сообразили, в чем дело, и тотчас среагировали. Кольцо вокруг толстяка стало теснее.
— А-а, — простонал он спустя полминуты и поморщился от боли. — Вы что, всегда такой невежа?
— Всегда, — ответил парень, подмигнув Дорис. У него была прическа под Лорелею.
Репродуктор объявил следующую остановку. Один из длинноволосых обратился к толстяку:
— Ты, кажется, приехал, свиной окорок, не забудь выйти!
Толстяк беспомощно оглянулся:
— Но… почему я…
Но никто из пассажиров не поддержал его. Казалось, на него просто не обращают внимания.
— Мне кажется, это твоя остановка, — сказал другой длинноволосый.
Толстяк выбрался из трамвая, ругая на чем свет стоит нынешнюю невоспитанную молодежь и всех, кто ей потворствует.
На следующей остановке вышла из трамвая и шумная ватага ребят. Один из них послал молодой женщине воздушный поцелуй. Она улыбнулась в ответ. Парень было задержался, но остальные потащили его с собою:
— Ты что, старик, не видел? Она же замужем!
Напротив Дорис Юнгман теперь расположился папа со своими чадами. Лейтенант тоже уже сидел, держа клетку на коленях. Временами он наклонялся к ней, прислушиваясь, как ведет себя птица под покрывалом.
«Офицер еще очень молод, — подумала Дорис, — лет двадцать пять, не больше». Она взглянула на его правую руку. Молодой человек был женат и ехал, очевидно, в казармы. Вез с собою клетку с птицей. «Интересно, его жена живет здесь, в городе, или их разделяют те же сто двадцать два километра, что и меня с мужем? А может быть, она живет еще дальше?»
Дорис вспомнила день, когда Андреас уходил в армию. Она помнила все, как будто это было вчера. Дня не проходило, чтобы она не вспоминала о часе разлуки. И при этом вновь возрождалась боль, как что-то непроходящее, к чему нельзя привыкнуть, вопреки стремлению примириться с судьбой.
…Празднично сервированный, как на рождество, стол. В коридоре — маленький полупустой чемодан, подготовленный к отъезду. По всей квартире — запах жаркого. Отец сидит за столом и ест суп. Вместо левой руки у него протез, им он поддерживает тарелку. Он пытается внести оживление в общую грустную атмосферу и говорит:
— Я вспоминаю гороховую похлебку, которую мы получали раз в день в армии. Ты увидишь, Анди, мать такую не готовит…
В этот момент Дорис роняет на пол ложку. Она больше не выдерживает и вскакивает. Фужер опрокидывается, и красное вино заливает лучшую скатерть мамы.
— Девочка! — восклицает она в испуге, как в ту ночь, когда увидела у маленькой дочери на коже пятна ветрянки.
Дорис выбежала из-за стола, Андреас — за ней. Он прошел в их комнату, где они жили вместе еще до свадьбы, сел к ней на кровать и нежно погладил по голове. Плечи ее вздрагивали, — она плакала. Ласка Андреаса немного успокоила ее.
— Я же не насовсем исчезну, — сказал он тихо.
— Исчезнешь! — воскликнула она. — Исчезнешь! — В ее голосе звучало отчаяние.
— Ты сможешь приезжать ко мне. Кроме того, у нас будет отпуск…
Наконец она подняла заплаканное лицо и взглянула на него. От мысли о том, что долгие восемнадцать месяцев она будет вынуждена жить без него, перехватило дыхание.
— Ты никогда не должен забывать о том, что я жду тебя, — промолвила она. Это прозвучало как предупреждение. — Каждый день, Анди… С раннего утра до вечера… Каждый час без тебя будет для меня мукой.
— Дорис! — Он нежно положил руку ей на плечо, но она отшатнулась он него.
— Ты не должен меня сейчас целовать, — сказала она. — Всегда помни о том, что начиная с сегодняшнего числа каждый день для меня мука. Восемнадцать месяцев, целых восемнадцать месяцев! Ты должен приезжать, как только у тебя появится возможность, Анди. Ты обещаешь мне?
— Честное слово! — воскликнул он и улыбнулся, желая ее ободрить.
Она протянула к нему руку:
— У тебя есть платок?
Они вернулись в столовую, чтобы не обижать мать, которая так старалась с этим обедом. Матери не хотелось мешать молодым при расставании. Она навсегда запомнила день, когда ее муж был призван в армию и отправился на войну. Она, конечно, понимала, что нельзя сравнивать эти два события. Сейчас это не было связано с фронтом, с бомбежками, с похоронными извещениями. Сейчас все было по-иному. «Солдаты мира» — так их называют в газетах. Но для нее все осталось по-прежнему. Тогда плакала она, сейчас плачет ее дочь, и все это в итоге отзывается на ней…
Голос из репродуктора оторвал Дорис Юнгман от воспоминаний о событиях, происходивших более двух месяцев назад. До конечной станции оставалось две остановки. Вагон был уже почти пустой. Парнишка теребил отца за рукав и показывал на лейтенанта:
— Папа, послушай, там кто-то пикает.
Дорис Юнгман улыбнулась.
— Это потому, что у него птичка, — объяснил папа своему отпрыску и смутился, так как заметил, что его слова поняты не совсем правильно. — В клетке, конечно, — поспешил добавить он.
Лейтенант тоже ухмыльнулся. Он жестом пригласил мальчика к себе и снял с клетки покрывало.
— И не одна, — промолвил он. — Парочка!
В клетке порхали две лимонно-желтые канарейки.
— Караулы, равняйсь! Смирно! — скомандовал капитан с красной повязкой на рукаве.
Перед ним стояли лейтенант, два унтер-офицера и восемнадцать рядовых. Офицеры были вооружены пистолетами, солдаты — автоматами.