Но, Сир, поверить — будто Бессмертный... голове, севшей в вашу треуголку, поплывшей на ней... — к тому же сменившая треуголку лиса отъела у императора пол-лица... Здесь я щиплю вас за ухо, маркиз, — где сей ламбрекен? — и вздыхаю: полно, я — как всегда — расхаживаю сверхрасхожим сюжетом: монарх, переодевшийся — в сиюминутность, непроницательность, спесь подданных... взгляните — на пресекших площадь половинчатых, дольчатых, заплатанных где попало — окнами... на каменных арлекинов в треуголках крыш!
И хотя летящие на пелеринах и снежных горжетках, на хрустких шарфах и расхлопанных складках встречные, несомненно, схватывают узор — с отвлечённой бархатной шубы с золотыми бранденбурами... театр!
Но моя неспособность — на сальто... неловкость примкнуть через голову — к плещущей полами стае, заполонившей площадь... к заполошной полонии, сточенной — белым, в час, когда император — без свиты, без славы... не вмещающейся в тесноту Варшавы...
И — замкнувшее меня в огненное кольцо — лето... головокружение перехода во времени, тошнота и удушливость деталей, жажда — символа, знака... Солнце — герб дня?.. Черновики на гербовой бумаге, нечистоты метафор... подтверждение адвентивности аллеи — с шепелявым, как Польша, красноречивым шиповником... алеющей, как европа, кустистой речью... И — солнечные золотые рога, вдруг выхватившие её — из окаменевших фаланг города... из финикийских ландшафтов, сидонских красот, бросившие аллею — allea jacta est — в небесно-морскую синь, не слетела б — с божественного быка... с быков, подпирающих начертания улиц...
Вдруг сверкнувший в книжной витрине горбоносый профиль с прищуром, цветущим — морем... нет, право, чей профиль — императора, Давида, Жана, Луи?
Или — выбивающийся из толпы прохожий, сигнально рыжий? Вызывающе — не он! Избитый, как атрибут огня... как маршал Ней...
И случайный всплеск беседы между стопочками — на пирсе письмовника: за крушение моего сочинения... за мое сокрушительное... Герой прошлого рассказа просил в больницу — книгу об отравлении императора... вернули с Того Света! Война назначила кровопускания... Вернули — кого? Кстати, прошлый тоже — горбонос... медонос... меринос... суть — звучность слова. И у всех, летящих за ним, — горбатый, птичий... теперь-то его профиль — плагиат!
Но если всё превращать в птиц, птице к лицу — всё!
Поджарые, гончие круги лета — по следу текущих — с потолка? напачкавших побелкой? — событий: наследников и предтеч... мнимая неразрывность — когда всё должно оборваться: и плоды, угодные для души моей... и всё тучное и блистательное... какой стиль, какая беспросветная явь...
Разорванная — фейерверками, пушками! 15 августа — день рождения императора. Раздача подарков, чудес... вакхических восклицаний и... мне?! Письменный знак — в двух блистательно тучных конвертах! Но — откуда... как?! Из-за моря... не всё ли равно? В день рождения императора.
Кто вам сказал, что море непрозрачно? И видел я стеклянное море... на десятой странице смешанное с огнем... И любимый литературный старик — во втором послании... роскошен — как Талейран — испепеляющий шутник: так безответственно — ничего в ответ, кроме... адресуете — мне? столь бытийственно-убийственные искания? — брезгливо опираясь на вопросительный знак. Особенно задаётесь сами — в шаге от меня, неужели вы не смешны... как прав император! От великого до смешного...
И полночь хлопушек — перед моим окном, золотое пустозвонство шутих, стозвонный салют — в честь... пока ничего не замечающий город — или незаметный сам...
Но на маленькой станции, польской, немецкой, сновиденной — император, инкогнито... сменить лошадей и оттаять... и — раздувающая в печи огонь — крошка-служанка с корзиночкой... в соломенной корзине на голове... И когда я растаю, — за глотком кофе, — эти несколько наполеондоров — ей на приданое... уже неприличный сюжет, как жаль, что великий человек столь дурно воспитан!
О, сказал император, играя в ящик... усаживаясь в санки, невзирая на вечный плагиат, как легко сделать счастливыми бедных людей. Этих бедных, бедных...
Но моё заморское письмо — слишком наспех... строка набегает на следующую — что, писали в порту? И второе — размыто, расплывчато... Но что и вовсе смущает меня в императоре... Всякий раз переписывает золотую жизнь — с набитой армейской затверженностью, когда очевидно — нужна другая композиция! Даже я могу перепутать... переставить случившиеся с ним события. И коль скоро его жизнь дискретна — временна, пока перевёртываем страницы... А он не смеет — перекроить! Или из новой последовательности не извлечётся нравоучение? И превратил великий текст... на бобах, как артиллерийский набоб. И мне не придётся воздеть в эпиграф Стендаля: Любовь к Наполеону — единственная страсть, сохранившаяся во мне...
Впрочем, я ещё не теряю надежду.
1992—1993
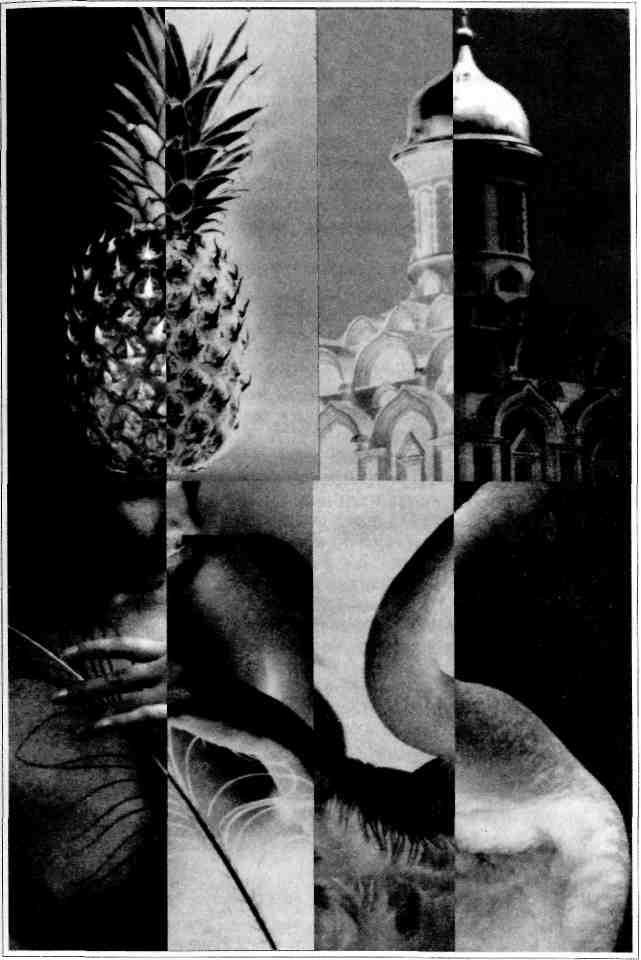
КОЗЛОВ Андрей Анатольевич
СТОКГОЛЬМ
Якобы я в Стокгольме, якобы получаю Нобелевскую премию. Журналист из «Ньюсуик» спрашивает:
— Как Вам Стокгольм?
— Ничего, — отвечаю. — Нравится. Особенно меня поражает то, что вывески магазинов написаны латинскими буквами — чувствуется, что заграница. Когда гуляю по улице, то думаю: неужто я и впрямь в Стокгольме? Неужто Нобелевскую премию отхватил? Всегда мечтал, но всё равно не верится.
— Когда, мистер А..., Вы впервые ощутили в себе писательское дарование?
— В детстве, конечно. Бывало, играешь в войну, в капитана Тенкиша или в ковбоев, и всё это комментируешь. Получается текст. Например: я ранен, я истекаю кровью, но я ползу, я подползаю к Вовке, он тоже ранен, говорю Вовке: «Отходи, я тебя прикрою», Вовка отвечает: «Нет, я тебя одного не брошу», тогда я говорю: «Владимир! Выполняйте приказ!», Вовка говорит: «Ладно!». Но тут через забор перелазят бледнолицые Олежка, Багда и Чира. Вовка суёт за пояс гранату и, пошатываясь, идёт к ним навстречу. «Ну, что, взяли?!» — кричит Вовка и бросает им под ноги гранату. Бах! «Вы все убиты!» — «Нет, мы ранены!» — кричат Олежка, Багда, Чира и падают. И так далее. Вот тогда, наверное, у меня появилось Это.
— А что было вашим первым написанным произведением?
— Школьные сочинения. Вот такие: «Наступила осень. Листья опали. Колхозники убирают урожай с полей. Скворцы, грачи и лебеди улетели на юг, а голуби и воробьи остались.» Вот с тех пор и пишу.
— Над чем Вы сейчас работаете, мистер А...?
— Следующий мой роман будет называться «100 тысяч лет из жизни человечества».
— Ну, спасибо!
— Ну, пожалуйста, до новых встреч!
Шведское такси, шведские журналы, король, королева, рестораны, бары, кока-кола, кровли готических крыш, пароходы.
1983
ЦАЦА-УПАНИШАДА
Кто-то крикнул:
— Цыть, салажня! Цаца пришёл.
Цаца действительно зашёл и, сев на сундук, зевнул. В окне, куда он в тот момент посмотрел, в аккурат летели вороны. Цаца, позёвывая, всех их пересчитал и сказал:
— Ого-го! Ничего себе как много! — Потом посмотрел на разинувших рты людей и изрёк, воздымя палец кверху. — Такова есть данность!
— Да ну ты! Иди ты! Эвон как! — зашумели все вокруг разом.
— Цыть, салажня! — крикнул кто-то. — Цаца всё разъяснит.
Завернувшись поудобнее в свою козлиную шкуру, Цаца сказал:
— Воттаковость, она есть всякая, и, если она вам надо, вы её можете увидеть.
— Где же она? — спросили его.
— Она — вон она, — ответил Цаца и добавил. — Забейте болт! Не вздрагивайте, друга мои. Самособойность несебечевойна, воттаковость самособойна, вы же еси овцы подле меня.
— А какая она, эта самособойность? — спросили его.