Солнышко поднялось, когда вернулся в дом Никифор Никитич. Наскоро позавтракал — и в контору. Сказал, чтоб его не искали, и укатил на газике на Центральную усадьбу. Директора на месте не застал и кинулся по его следам. Догнал в самом дальнем отделении. Директор встревоженно нахмурился, спросил:
— Зачем здесь, Никитич? Беда какая стряслась?
Директор в летах, седой. Агроном давнишний, в свое время Тимирязевку кончил.
— Дело есть, Юрий Андреевич.
— Такое срочное, что гонялся за мной, как за зайцем?
— Как тебе сказать… Срочное не срочное, а вот тут болит, — признался Осолодков и постучал в грудь.
— Если ты из-за шутки Петренки, то зря. Парни молодые, дурачатся. А Петренке я чуб накрутил.
— И все же выслушай.
— Ну, коли тебе так приспичило… Пойдем, хоть на те бревна присядем. На ногах-то чего серьезные речи вести.
Присели на бревна, возле забора. Закурили. Никифор Никитич все, как на исповеди, и рассказал директору о своих сомнениях-переживаниях. Тот сначала слушал с улыбочкой: мол, не иначе блажь на мужика нашла. Но чем дальше рассказывал Никифор Никитич, тем серьезнее становился директор, любопытнее стал приглядываться к управляющему, будто заново открывая его. А ты вот какой, оказывается! Нахмурился директор, обхватил рукой подбородок, покряхтывает иногда:
— Мда…
Понятны ему тревоги Никифора Никитича, близки. Долго они сидели так-то на бревнах, никого к себе не подпускали. Думали вместе. Папиросу за папиросой портили.
— Задал ты мне, брат, задачку, — вздыхал директор. — Будто и прав ты, а будто и нет.
— Но с таким настроением, поверь, работать нельзя.
— Оно так. Это ведь не просто — взять да и освободить управляющего. Хоть ты и прав, хоть тебе и трудно, а все-таки… Как-то вдруг, Никитич…
— Да не вдруг. Думал я, много думал… Заявление, если надо, напишу.
— Что там заявление…
— Буду бригадиром. Мне и этого хватит.
— А не подумают, что ты бежал от трудностей?
— От каких? Нет, Юрий Андреевич. Народ-то ведь все видит, понимает, что я потихоньку зашиваться начал. Один раз оступишься по незнанию, другой, а там, глядишь, и хозяйство под откос пустишь. Тоже по незнанию. Зачем до этого доводить?
— Умно ты рассуждаешь, в логике не откажешь.
— Да ведь я все передумал — переболел.
— Ладно, я тоже подумаю, — сказал директор, поднимаясь, но снова мотнул головой, все еще удивляясь: — Ну и дела-а-а. Так, говоришь, агронома в управляющие? Весенина?
— Его.
— Не молод?
— Какой же тут грех? Мы вот с тобой молодыми уже не будем. А он стариком еще будет. Не торопи.
— Ох, брат Никитич, задал ты мне задачку…
Никифор Никитич ехал домой умиротворенный. Хороший разговор состоялся с директором. Боялся, не поймет. Но понял. Одно сильно беспокоило: как отнесется к его шагу Анюта? Впервые, принимая такое важное решение, он не посоветовался с женою. Почему? Сам не знал.
Но совесть у него была чиста: работы он не страшится — была бы только по плечу.
ЛИСИЙ ХВОСТ
На окраине Кыштыма, у самой дороги, которую называют Уфалейской, в те времена стоял двухоконный домик с голубыми наличниками. Жил в нем пожарник Семен Вагин, по-улочному просто Сема Бегунчик. Прозвище он получил за свою походку — при ходьбе так шустро и быстро семенил ногами, чуть подав вперед туловище, будто находился в постоянном беге. Служба в пожарной команде известная — сутки дежуришь, а двое загораешь. И что удивительно: Бегунчик, несмотря на способность легко и стремительно передвигаться, больше любил посидеть. Возле дома смастерил скамеечку и теплые вечера проводил на ней: то дымил «козьей ножкой», то лузгал семечки, то просто ничего не делал: сидел и смотрел.
Отец разрешил тогда мне пользоваться дробовиком, и я частенько, придя из школы, бежал на охоту. Если выйти за город по Уфалейской дороге, перейти мелководную речушку Егозу, углубиться в лес, то попадешь в глухомань, зовут которую почему-то Кузиным островом. От мира этот Кузин остров отделен болотом. Раньше болото было непроходимым и страшным, но к моим временам высохло и преодолевалось без особого труда. На острове росли лиственницы. Ранней осенью колючки у нее закисают. Такие колючки любят глухари. Вот я и повадился туда ходить. Удача не особенно баловала меня, но я упрямо верил, что со временем она придет.
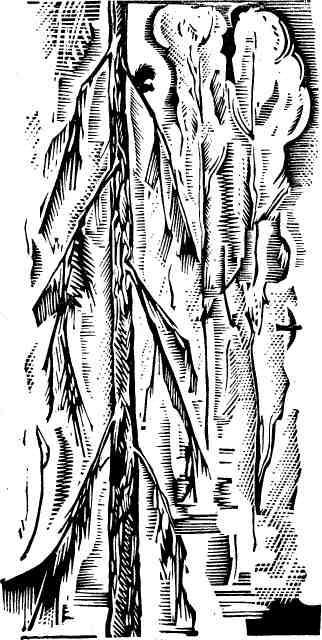
На охоту или с охоты приходилось ходить мимо дома Бегунчика. Дорога тут одна. Сема и приметил меня, начал посмеиваться. Сидит, бывало, на своей скамеечке, семечки лузгает, усмехается. Задирал обычно первый:
— Здорово, парень! Далеко путь держишь?
— До Кузина острова, дядя Семен.
— Валяй, валяй. Я намедни зайца там к сосне привязал, так ты его не пропусти. Жирный куян.
— А на что он мне?
— Не надо? Ох, грех какой. Ладно. Другой раз я тебе козелка раздобуду. Только, сдается мне, стрелять-то не умеешь.
— Да уж не беспокойтесь.
— Умеешь, значит? Ну тогда и верно не о чем беспокоиться.
А когда я возвращался, особенно если пустой, Бегунчик спрашивал:
— Ну, как? В белый свет, как в копеечку? Али мимо? Слышал я твою канонаду — всех ворон, небось, насмерть перепугал.
Житья не было от его насмешек. Пытался за версту обходить его дом. Но обходить было неудобно: по камням да косогорам, пока дойдешь до места — умаешься. И терпел насмешки. А что оставалось? Обидишься, больше засмеет. Можно было отцу пожаловаться. Но тогда и на глаза не попадайся!
Однажды со мной приключилась такая оказия. Пересекал я болотнику. Было начало ноября. Снег еще не выпал, а подмораживало-крепко. Свернул я с болотники немного в сторону, в мелкий соснячок. Тропинка тут бежит по самой кромке: слева сосенки, а справа за голыми низкорослыми кустами ольховника тянется все та же болотника. Глянул я направо и замер: между двух заиндевелых кочек пламенел лисий хвост, яркий такой, пушистый. Я разволновался, чего тут говорить, тихохонько вскинул ружье и соображаю: по хвосту лупить нельзя, бесполезно. Самой же лисы не видно. Решил зайти сбоку и пальнуть в голову. Чтоб наверняка. А кинется бежать раньше сроку, ударю вслед из обоих стволов. Все равно не уйдет. Пробираюсь, стараюсь не шуметь. Хвост топорщится все так же, главное, даже не шелохнется. Я с него глаз не спускаю. Сомнение стало разбирать. Почему хвост неподвижный? Шагнул еще и вижу — лиса мертва. Кто-то когда-то поставил капкан с приманкой. Лиса и попалась, лису исклевали вороны, а хозяин капкана все не шел и не шел. А хвост чудесно сохранился. Жалко мне было оставлять его, отрезал и сунул в карман. На память. Обидно немного было. Могла бы ведь и живая лиса встретиться. Так нет! Кому-то везет, а мне… Да еще мимо Бегунчика идти придется. Опять начнет приставать.
Сема, как всегда, у ворот лузгал семечки. Не сидел, а стоял, привалившись к верее, — прохладно было. Словно специально меня поджидал. И начал свою канитель. Вдруг заметил в моем кармане лисий хвост.
— А это у тебя что?
— Где? Это?
— Ага, это, это.
— Дак это хвост, дядя Семен.
— Ну-ка покажь.
Я показал — не жалко, пусть смотрит. Вижу загорелись глаза у Бегунчика, повертел в руках хвост, прищурился и спросил.
— Поди-ко не знаешь, от какой это зверюги?
Тут я решил разыграть простачка.
— Шут ее знает, — отвечаю. — Кошка не кошка и на собаку вроде походит тоже.
— Ну, ну.
— А чего «ну»? Бежит, я в нее бабахнул. Попал с первого. Хвост отрезал вот — больно красивый, — я забрал у Семы хвост, распушил его. — Красота! На память вот взял.
— Погоди, а зверюга где?
— Зверюга? Да там осталась — в лесу.
— Где это там?
— У Кузина острова, где же еще. Знаете, там растет листвянка, которую нынче летом громом побило.
— Ну, ну!
— Недалеко от нее, в самой болотнике. Отрезал хвост, а зверюгу бросил. На кой она мне леший?